Русское население восточной Латвии во второй половине XIX-начале XX века
Антонина Заварина
Глава 3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РУССКИХ КРЕСТЬЯН ЛАТГАЛЕ
Главной отраслью земледелия у всех категорий крестьян Латгале на протяжении рассматриваемого периода было хлебопашество. Хлебопашеством не занимались лишь бобыли (кутники) и огородники, не имевшие пахотной земли.
Природно-климатические условия Латгале в общем были малоблагоприятны для успешного ведения сельского хозяйства. Почвы Латгале — супески, суглинки, подзолы (о соотношении их см. табл. 11) — требовали обильного удобрения и тщательной обработки (2).
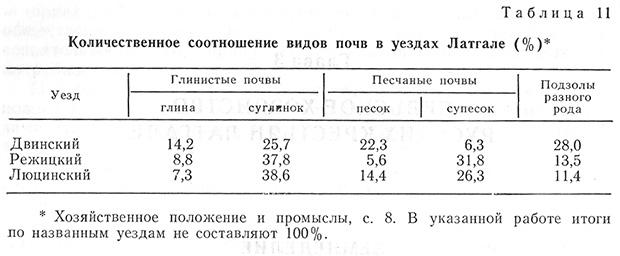
Основным неблагоприятным для земледелия погодным фактором являлись довольно резкие колебания средних температур, что отрицательно сказывалось на росте и, следовательно, урожайности хлебов. Существенно вредило сельскому хозяйству и обилие дождей. Частые, продолжительные осадки тормозили рост и созревание хлебов, срывали их своевременную уборку. Мешали частые дожди и в период сенокоса. По утверждению исследователей, в среднем на протяжении 15 лет наблюдений в Витебской губернии ежегодно насчитывалось до 217 дней с осадками (3).
Скудость местных почв, малоблагоприятные климатические условия, малоземелье, бедность большинства крестьян, чересполосица на долгие годы предопределили низкий уровень развития сельского хозяйства в Латгале. Характеризуя состояние земледельческой техники крестьян Витебской губернии первой половины XIX в., Е. Васильев писал: «Если земледелие собственно у крестьян всей России находится доселе в младенчестве, то у крестьян Витебской губернии оно находилось в каком-то летаргическом усыплении» (4).
Примерно так же характеризовали состояние сельского хозяйства Витебской губернии и другие современники (5).
Основной формой землепользования у крестьян Латгале, в том числе и у русских, как уже отмечалось, было подворное, но у незначительной части их вплоть до начала XX в. существовало и общинное землепользование.
Характерной особенностью пользования надельной землей как у помещичьих, так и у государственных крестьян была чересполосица, и только во второй половине XIX в. появилось хуторское землепользование и землепользование на отрубах. Но чересполосное землепользование в Латгале еще в начале XX в. Оставалось доминирующим: оно охватывало от 85 до 97% всех хозяйств, хуторское — от 2,8 до 13%, и совсем незначительным было ведение хозяйства на отрубах (0,3—1,9% хозяйств) (6).
Чересполосное землепользование явилось результатом, с одной стороны, распределения надельной земли между самими крестьянами, а с другой — отмежевания крестьянских наделов от земли владельцев (помещиков, государства и др.). Можно допустить, что неразверстанность владений между помещиками и крестьянами существенно тормозила переход их хозяйств к новому, капитали- стическому способу производства, создавала массу осложнений в- отношениях между ними. Но ликвидация чересполосицы крестьянских земель проходила во второй половине XIX в. крайне медленно и главным образом в тех волостях Люцинского и Режицкого уездов, где происходило разверстание сервитутов (7). О темпах развития этого процесса в латгальской деревне говорилось уже в предыдущей главе.
Но более тяжелой по своим последствиям была, видимо, крестьянская чересполосица, получившая в Латгале название шнуровой, при которой небольшие крестьянские наделы разбивались на узкие, длинные, отделявшиеся межой, полосы (8). К такому порядку землепользования приводило, с одной стороны, стремление наделить в равной мере всех крестьян землей одинакового качества, а с другой — дробление земельных наделов при семейных разделах.. Вследствие указанных причин на небольшом поле, размером в полдесятины, насчитывалось иногда до 20 полос, ширина которых не превышала 2—3 сажен (9). Но нередко случалось, что эти и без. того узкие полосы подвергались новому разделу между братьями..
Крестьянские поля оказывались настолько испещренными и изрезанными «во всех направлениях, как лентами, шнурами», что пахарю трудно было развернуться на них с лошадью (10).
Чересполосица, являвшаяся, по выражению современника, «язвой, поразившей латгальскую деревню» (11), была не меньшим злом в жизни крестьян, чем малоземелье, так как затрудняла обработку узких полос земли, а главное — делала невозможным переход к усовершенствованным системам ведения хозяйства и использованию сложных машин, определяла существование принудительных севооборотов, препятствовала введению любых агротехнических новшеств и тем самым сковывала всякую хозяйственную инициативу крестьян. Неудобство чересполосного землеполь зования усугублялось и тем, что полосы находились на разных, нередко далеко отдаленных друг от друга полях.
На территории бывшего военного поселения практиковались и переделы земли, которые также не стимулировали введение каких- .либо усовершенствований и новшеств. Более того, они способствовали истощению почв, так как крестьяне задолго до очередного передела переставали удобрять свои полосы.
Выход на хутора означал конец чересполосному землепользованию, однако в конце XIX — начале XX в. хуторское землепользование, как показывали приведенные цифры, получило еще незначительное распространение.
Несколько иным было землепользование у арендаторов, носившее характер, близкий к хуторскому. Однако в тех случаях, когда участок был расположен среди крестьянских наделов или когда участок, фольварк арендовали несколько крестьянских семей, имело место чересполосное землепользование, но без мелкополо- сицы.
На протяжении XIX в., как, впрочем, и ранее, у всех категорий крестьян Латгале существовала паровая система земледелия с трехпольным севооборотом, при котором земля делилась на три приблизительно равных поля: озимое (12), яровое (13) и паровое (14).
Чередование культур, как и повсюду при трехполье, было следующим: яровые хлеба сеяли после ржи, рожь — на паровом поле, а прошлогоднее яровое поле оставляли под пар для восстановления плодородия почвы. Таким образом, на первое поле возвращались только на четвертый год. Ежегодная вспашка полей, недостаточность удобрений, посев одних и тех же культур приводили к быстрому истощению почвы, к разрушению ее структуры, что, естественно, сказывалось на урожаях. Но «если она [трех- польная система] тем не менее излюблена населением, — писали исследователи XIX в. относительно России, — и удерживается столь долгое время, давно уже будучи осуждена теорией и даже практикой, то это благодаря ее крайней простоте, удобству и соответствию обычаям и приемам земледелия в местностях, не слишком далеко еще продвинувшихся на пути экономического развития» (15).
В первой половине XIX в. крестьяне Латгале знали и более архаичную систему землепользования, характерную в прошлом для земледельцев всей лесной полосы Восточной Европы, — подсечное, или лядииное (16), хлебопашество, связанное с вырубкой и сжиганием леса. Правда, в первой половине XIX в. традиция подсеки использовалась в Латгале в основном как способ освоения лесных угодий для расширения постоянных полей в режиме трехпольного хозяйства. Но к концу XIX в. подсека и этого вида была изжита.
К началу XX в. трехпольная система хозяйства у зажиточных крестьян Латгале, особенно у вышедших на хутора крупных крестьян, арендаторов, заменяется многопольной. У части крестьян при сохранении трехполья выделяется поле под траву. Но травосеяние (клевер и вика в смеси с овсом), по данным 1907 г., существовало еще в сравнительно небольшом числе хозяйств (17) и посевы кормовых трав занимали в них весьма незначительную площадь — 0,9% всей посевной площади в Режицком и Люцинском уездах и несколько больше — 2,1% в Двинском (18). Переход от трехполья к многополью сдерживали в основном два обстоятельства: малоземелье крестьян и чересполосица.
Состав возделываемых в Латгале русскими крестьянами сельскохозяйственных культур определялся реальными природными условиями их новых мест поселения. Ими были, как показывают инвентари имений первой половины XIX в., рожь, овес, ячмень, горох, бобы, лен; в меньшем количестве и не повсюду сеялись озимая и яровая пшеница, яровая рожь, конопля и гречиха. По своему происхождению набор злаков и незерновых культур у русских крестьян Латгале был связан главным образом со средними и северными областями России, а шире — с лесной полосой Восточной Европы и поэтому совпадал с составом культур, выращиваемых местным населением. Состав культур оставался почти неизменным до начала XX в., менялось лишь их количественное соотношение в зависимости от спроса рынка, с которым хозяйства латгальских крестьян по мере развития капиталистических отношений в Латгале, оказывались связанными.
Основными злаковыми культурами, выращиваемыми на протяжении длительного периода времени русскими крестьянами Латгале, как и на их родине, являлись озимая рожь и овес, занявшие в лесной полосе Восточной Европы монопольное положение с утверждением трехпольного севооборота. Как менее прихотливые растения, они в свое время значительно потеснили более древние культуры — пшеницу и ячмень. Рожь у русских Латгале во второй половине XIX в., как и ранее, занимала почти все озимое поле. Наиболее значительные посевы ее (от 43,2 до 47,2% всей посевной площади) были в хозяйствах крестьян с надельной землей в
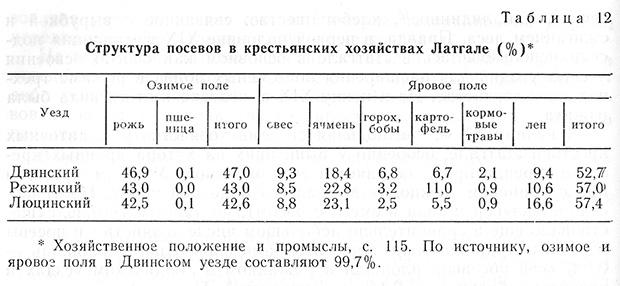
6—10 дес., т. е. у преобладающей массы крестьян. Стремление обеспечить себя собственным хлебом заставляло их до предела расширять посевы этой культуры. Озимую пшеницу в конце XIX — начале XX в. крестьяне сеяли мало. Ее посевы в крестьянских хозяйствах занимали лишь 0,1 % посевной площади (19). Под яровые культуры отводили чуть более половины всей посевной площади.
О соотношении посевов культур на начало XX в. дает представление табл. 12. Данные таблицы показывают, что преобладание яровых культур над озимыми в латгальских уездах было незначительным. При этом расширение площади под яровые культуры происходило главным образом в хозяйствах зажиточных крестьян, у которых посевная площадь превышала 50 дес.
В первой половине XIX в. большая часть ярового поля (около- половины его) отводилась под овес (20). Второе место занимал ячмень. Но к концу XIX в. структура посевов яровых культур изменилась. Первое место принадлежало уже ячменю, и по размерам посевных площадей, занятых им, латгальские уезды в Витебской губернии в начале XX в. стояли на первом месте, в то время как в остальных уездах посевы овса по-прежнему превышали ячменные (21). Интересно отметить, что самые большие посевы ячменя в Витебской губернии (в процентном отношении ко всей посевной площади) наблюдались в хозяйствах с наименьшими размерами посевных площадей вообще (от 1 до 4 дес.). Это объяснялось тем, что на Витебщине ячмень служил для бедняков хлебом (22). Часть площади овес уступил, видимо, техническим культурам, посевы которых во второй половине XIX в. заметно возросли. В конце XIX — начале XX в. сравнительно много овса (также в процентном отношении к посевной площади) сеяли малоземельные (1 — 2 дес. посевов) крестьяне, которые занимались еще извозом, и овес у них являлся фуражной культурой. Кроме того, овес у этих крестьян играл заметную роль и в питании семьи (23). В зажиточных хозяйствах посевы овса были самыми большими, занимая от 21 до 34;% общей посевной площади. Здесь посевы овса преобладали над посевами ячменя (24), что объяснялось значительно большим количеством скота в этих хозяйствах и более прочными связями их с рынком. Яровые рожь и пшеницу крестьяне Латгале во второй половине XIX в. практически не сеяли. Выращиваемая в первой половине XIX в. в крестьянских хозяйствах многих имений (25) гречиха к началу XX в., как малодоходная по сравнению со льном культура, почти исчезла с их полей. Площадь, занятая в губернии гречихой (вместе с просом, яровыми пшеницей и рожью), в начале века составляла всего 0,2—0,3% посевной площади (26).
Во второй половине XIX — начале XX в. латгальские уезды, и особенно Двинский уезд, выделялись среди других уездов Витебской губернии сравнительно большими посевами гороха и бобов (27), хотя эти культуры и возделывались в основном для личного потребления. Предпочтение из этих двух культур крестьяне отдавали гороху. Часто горох сеяли в смеси с овсом, муку которых употребляли в пойло скоту.
Из технических культур на латгальских почвах, как, впрочем, и на псковских, хорошо произрастал лен. Уже в первой половине
XIX в. он являлся для многих крестьян товарной культурой. В 70-е гг. XIX в. в отдельных волостях Люцинского уезда лен занимал до Уз ярового поля (28). Этот же уезд выделялся размерами посевов льна и в начале XX в. Особенно возросли посевы льна в Витебской губернии, в том числе и в ЛатгаЛе, в конце XIX в. В этот период лен являлся в яровом поле третьей после ячменя и овса культурой, превосходя по площади посевы картофеля.
Посевы льна, как показывает анализ, проведенный исследователями начала XX в., возрастали по мере увеличения у крестьян посевной площади и наибольших размеров достигали в хозяйствах крестьян, у которых она составляла от 10 до 20 дес. земли (29). Росту посевных площадей под лен у них способствовали избыток рабочих рук в хозяйствах и довольно высокий уровень рыночных цен на эту культуру.
Исследователи второй половины XIX в. отмечали также, что особенно большое количество льна сеяли русские старообрядцы Витебской губернии и что многие из них вели широкую торговлю им (30). Сбытом продукции занимались как сами крестьяне, так и скупавшие у них лен купцы.
Культура южной и средней полосы России — конопля — в хозяйствах русских крестьян Латгале во второй половине XIX в. занимала незначительное место, а к началу XX в. ее почти совсем: перестали сеять.
Уже в первой половине XIX в. крестьяне Латгале, в том числе и русские, выращивали картофель. Но до 40-х гг. XIX в. он «выращивался как огородная овощь». Начиная с 40-х гг. XIX в. в результате принятых мер по пропаганде этой культуры посевы картофеля в хозяйствах Витебской губернии заняли значительную' площадь (31). Кроме того, если ранее картофель расходовался исключительно на собственные нужды крестьян, то в 50-е гг. XIX в., в деревнях, расположенных вблизи городов или винокуренных заводов, он приобрел и торговое значение. На рубеже веков посевы картофеля были весьма значительными, занимая в среднем 7,%. всей посевной площади крестьянских хозяйств (32). По размеру посевных площадей, занятых картофелем, в начале XX в. в Витебской губернии выделялись два уезда — Режицкий и Себежский (33).. Больше всего картофеля сажали (в процентном отношении ко всей посевной площади) в хозяйствах крестьян, имевших посевы в пределах 1 дес., так как эта культура, как один из наиболее дешевых сельскохозяйственных продуктов, стала у них основной в питании. В крупных хозяйствах в начале XX в. посевы картофеля занимали 3—4% всей посевной площади (34).
Помимо полеводства русские крестьяне Латгале занимались огородничеством и садоводством, но эти виды занятий были развиты слабо, особенно до отмены крепостного права, и не являлись самостоятельными отраслями сельского хозяйства. Толчком к развитию огородничества и садоводства послужило проведение сети: железных дорог, благодаря чему не только улучшились условия: сбыта продукции, но и изменились условия ее производства. Тем не менее и после этого существенных перемен ни в огородничестве,, ни в садоводстве у русских крестьян Латгале из-за их малоземельяг и бедности не произошло. Исключение составляли селения, расположенные в непосредственной близости от городов и где эти виды занятий носили коммерческий характер.
Особенно большой процент огородников в Витебской губернии, как и повсюду в Западном крае, наблюдался среди старообрядцев и евреев, которые арендовали под огороды земли вблизи городов, а нередко и в селах (35). Кроме того, огородничеством занимались староверы-мещане, жившие в предместьях городов (36).
Основная же масса крестьян в огородах размером в полдесятины на надельной земле сажала овощи преимущественно для своих нужд.
Среди огородных культур, выращиваемых в конце XIX — начале XX в., следует назвать белокочанную капусту, брюкву разных сортов (по местной терминологии, калика (37), грыжина (38)), морковь, или баркан (39), свеклу (ботвинье (40), бурак (41)) — желто-красную, круглую, египетскую, рункуль (42) — местный сорт кормовой свеклы, репу желтую, редьку желтую майскую и раннюю черную, огурцы, лук, бобы, мак, ранний картофель, реже редис разных сортов, салат.
Все культивируемые овощи относились к местным традициош ным сортам, что объяснялось отсутствием у русских крестьян Латгале специальных знаний в этой отрасли хозяйства, недостатком хороших семян, а главное — денежных средств. Семена были в основном собственного производства, и лишь немногие крестьяне выписывали их из Риги, Петербурга, Москвы (43). Парниковая высадка ранних овощей почти не практиковалась.
Занимавшиеся садоводством крестьяне выращивали яблоки, груши, меньше — сливы, вишню (вишенье — по терминологии крестьян-староверов), так как эти фруктовые деревья сильнее страдают от зимних холодов, красную смородину, или поречку (44), крыжовник, или, как называли его староверы, ягрист (45), и не только для своих потребностей, но и для рынка. Крупные сады были в ряде русских деревень Малиновской волости Двинского уезда (Б. Барановская, Старый Замок, Липинишки, Васаргалишки, Кру- пенишки, Вагинишки, Бикерниеки, Московская) (46).
Коммерческому характеру садоводства в этих местах содействовала близость их к г. Двинску. Сады до 30 деревьев имелись и у некоторых крестьян Режицкого уезда (Ружипская, Розенмуйж- ская вол.). Отдельные старообрядцы арендовали сады у помещиков (47), а некоторые, наоборот, сами сдавали их в аренду мещанам- старообрядцам (48).
Из сказанного выше следует, что у русского населения в этот период были развиты лишь самые необходимые и возможные в их условиях отрасли земледелия, призванные удовлетворить потребности крестьян в продуктах питания и обеспечить кормом содержащийся в хозяйстве скот. Связь крестьянских хозяйств с рынком была развита слабо.
Цикл весенне-полевых работ в хозяйствах крестьян начинался с подготовки почвы для посева яровых культур. Во второй половине XIX в. при трехпольной системе земледелия этот процесс работы во многом базировался еще на использовании навыков и традиций, которые русские крестьяне унаследовали от своих предков.
В основе этих традиций лежали накопленные эмпирическим путем знания крестьянами свойств почв, природно-климатических особенностей края, а также умение учитывать их взаимодействие. Весь этот веками накопленный практический опыт земледельца нашел отражение в сельскохозяйственном календаре, который строго регламентировал с учетом названных факторов весь цикл работ по проведению пахоты, сева и уборки урожая.
Однако сельскохозяйственный календарь русских крестьян, как и крестьян многих стран мира, отражал не только рационализм, прагматизм земледельца, но и его иррациональные средства, к которым он считал необходимым прибегать для обеспечения своего благополучия. К этим средствам относилась целая система магических обычаев, обрядов, которые были вызваны к жизни верой крестьян в таинственную силу природных явлений.
Нашедшие отражение в календаре сроки весенней пахоты, способы подготовки земли были выработаны крестьянами с учетом прежде всего погодных условий, качества почвы н особенностей вегетационного развития высеваемых культур.
В большинстве мест Латгале все крестьяне начинали пахать (49), как только просыхала земля, и старались окончить эту работу до егорьева дня, т. е. до 23 апреля по ст. ст. Дальнейшая обработка почвы зависела от высеваемых на ней культур. Наиболее тщательно землю готовили и русские, и латышские крестьяне под ячмень и меньше всего под овес, как выносливую и неприхотливую культуру. Если при подготовке почвы под овес, а также под горох ограничивались одноразовой вспашкой и боронованием земли, то под ячмень землю двоили, т. е. пахали дважды и дважды бороновали. Землю под лен пахали один раз, но тщательно разрыхляли, что достигалось двух-трехкратным боронованием. Лен крестьяне считали особенно выгодным сеять на залежных землях, что обеспечивало хороший урожай.
Землю под картофель старались готовить с осени, когда в нее запахивали навоз, весной почву перепахивали, бороновали, после чего высаживали под соху клубни (50). Но большинство русских крестьян за неимением свободных рабочих рук все эти виды работ с некоторыми интервалами проводили весной.
Крестьяне дифференцированно подходили к разным зерновым культурам не только в отношении числа вспашек, но и характера заделывания высеянных семян, от чего зависела их всхожесть. Ячмень, как и большинство яровых культур, почти до конца XIX в. всеми крестьянами Латгале высевался под соху, в то время как рожь сеяли под борону. Сев под соху означал, что посеянные семена закрывали, или опахивали, сохой. Овес также сеяли под соху, посевы гороха сначала заделывали сохой, а затем еще бороновали. Посевы льна заделывались более тщательно, и не сохой, как все яровые культуры, а бороной, при этом по одному и тому же месту проходили дважды.
Важное значение при подготовке почвы под посев имела глубина вспашки. Она зависела от характера почвы, рельефа местности и, главное, экономических возможностей крестьянина. Во второй половине XIX в. русские крестьяне применяли в основном мелкую вспашку в 2—2 1/2 вершка (51) (9—12 см). При такой вспашке меньше обременялся рабочий скот и в общем неплохо взрыхлялся верхний слой почвы. Более глубокая вспашка, которая обеспечивала лучшую кустистость, а следовательно, и урожайность хлебов, большинству крестьян Латгале была недоступна. Глубина ьспашки в 2—272 вершка соблюдалась для всех культур, за исключением картофеля, для него землю вспахивали немного глубже (3—4 вершка). Неглубокая вспашка — характерный признак обработки крестьянских полей многих районов России, в том числе Псковской губернии, частично и Латвии (52).
К началу XX в. глубина вспашки на полях большинства русских крестьян Латгале оставалась в основном прежней.
Способы подготовки земли под посев яровых культур, так же как и задел посевов, существовавшие в прошлом у русских крестьян Латгале, были сходными с таковыми не только у основной массы псковичей, но и у их соседей — белорусов, латышей Латвии и некоторых других народов, что объяснялось идентичностью условий, в которых складывались основные приемы обработки земли у названных этносов (53).
Подготовка земли для посева предусматривала и ее удобрение. Но при трехпольной системе земледелия удобрялась не вся пашня, а лишь та ее часть, которая предназначалась под посев озимой ржи (ею был паровой клин). Таким образом, каждое поле удобрялось один раз в три года. Почти до конца XIX в. основная масса русских крестьян Латгале из-за бедности никаких удобрений, кроме навоза, не употребляла. Более того, большинство из них вследствие малого количества скота в хозяйствах испытывали острый недостаток и в нем.
Для удобрения земли в пределах минимальной нормы (54) на 1 дес. земли должно было приходиться не менее 3 голов крупного рогатого скота (лошадь принимается за 2 головы), средней и максимальной нормы — 4 и 5 голов соответственно (55). Но в русской деревне Латгале как в первой, так и во второй половине XIX в. крестьянских хозяйств с таким количеством скота было немного. Поэтому у большинства крестьян земля получала удобрений значительно ниже минимальной нормы, что, естественно, сказывалось на урожайности.
О количестве удобрений, вносившихся крестьянами на их пашни в первой половине XIX в., дают представление инвентари имений. Как правило, крестьянскую норму удобрений составляли 40 возов навоза (по 15 пудов каждый) на 1 дес. земли (56), что было в 3— 4 раза меньше, чем его вывозилось на помещичьи поля (на 1 дес. земли в имениях приходилось по 125—150 возов тучного навоза) (57).
Не изменилось положение в этом отношении и во второй половине XIX в., так как поголовье скота, как говорилось ранее, у основной массы крестьян не возрастало (58). В Латгале количество навоза, вывозившегося на 1 дес. крестьянской земли, было в два раза меньше, чем в Курземе и Видземе (59).
Крестьяне Латгале, как и Псковщины и многих других районов России, навоз в поле вывозили во время петровского поста толокою (60), так как это была трудоемкая работа, а главное, ее надо было провести в сжатые сроки. Для толоки объединялось несколько хозяев с лошадьми. Приглашались в первую очередь родственники, соседи. Участники толоки должны были вывезти навоз со двора в поле, где его сгружали сначала в небольшие кучи, а затем равномерно разбрасывали по полю для запашки. Обязанности толочан были четко разграничены по полу и возрасту.
У русских, как и у других народов, толока сопровождалась исполнением целого ряда обрядов, которые внешне носили увеселительный характер, а по сути своей восходили к магическим приемам, с помощью которых в древности люди пытались обеспечить плодородие нивы (61). Среди них следует назвать широко распространенный у русских Латгале еще во второй половине XIX — начале XX в. обычай обливания участников толоки, в том числе хозяина и хозяйки, водой. Не ограничиваясь этим, толочане часто затаскивали друг друга в пруд, реку или озеро. В настоящее время смысла обливания водой информаторы уже не знают. Большинство из них в этом обычае видят лишь игровой момент. Но несомненно, что данный обряд — сохранившийся элемент имитативной магии, с помощью которой пытались вызвать дождь, необходимый для хорошего роста хлеба.
Такого же трактования этого обычая придерживался и автор повести «Дом детства», посвященной русской деревне Латгале, Л. Любимов. Описывая обливание во время навозной толоки, он говорит, что это «обычай такой, даже поверье: чтобы рожь лучше росла» (62). Аналогичный смысл вкладывали в него и белорусы, которые считали, что, чем сильнее участники толоки будут облиты водой, тем больше будет дождей и, следовательно, лучшим окажется урожай (63).
К такого рода магии для вызова дождей прибегали в прошлом не только восточные славяне, но и многие европейские народы, правда, магические обряды они чаще, как можно судить по литературе, совершали непосредственно в период постигшей их засухи (64). Большинство же русских крестьян обряды, предназначенные для вызова дождя, приурочивали еще и к определенным моментам сельскохозяйственных работ: русские крестьяне Латгале и их родных мест — к навозной толоке и запашке земли под свой основной хлеб — озимую рожь, некоторые крестьяне внутренних районов России — к окончанию женщинами ткацких работ и к началу сева ярового хлеба (65).
У части населения Латгале (Узульмуйжская, Солуионская вол. Режицкого у., Варковская вол. Двинского у.) обычай обливания водой в толоку связывался не с аграрной, а с животноводческой магией. Обливание водой, так же как и обмазывание друг друга овсяным киселем, в толоку содействовало, по их мнению, увеличению удоев молока. Именно такое толкование обычая обливаться водой и обмазываться киселем было зафиксировано нами в русских деревнях Всхоновской волости Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне Куньинский р-н Псковской обл.), а также в Чай- кинской волости Себежского уезда Витебской губернии (ныне Себежский р-н Псковской обл.). Подобным же образом трактуемый обычай обливания водой существовал в прошлом и у латышей Латгале (66). Прибегали толочане и к другим магическим приемам, связанным с заботой об урожае, но они были рано забыты русскими крестьянами Латгале (67).
Существовавшие у русских крестьян Латгале во второй половине XIX в. приемы обработки земли, которые базировались на эмпирически накопленных ими знаниях природных явлений, как можно было убедиться, были довольно примитивными, но достаточно приспособленными к местным условиям. В результате долголетнего опыта крестьяне выработали тот минимум необходимых навыков, приемов для каждой культуры, который обеспечивал возможный в их условиях урожай. Но если в более ранний период, при феодальных формах ведения хозяйства, эта система оправдывала себя, то в условиях капитализма, когда развитие крестьянского хозяйства зависело от требований рынка, она оказалась малоэффективной.
Одним из наиболее важных моментов в цикле весенне-полевых работ был сев. Его требовалось проводить в минимально сжатые сроки. Время высева каждой культуры устанавливалось сельскохозяйственным календарем, учитывавшим в этой области работ взаимосвязь климатических условий, качество почв, рельеф местности и сорта высеваемых культур. Учет этих изменяющихся факторов на протяжении многих десятилетий позволил, тем не менее, установить довольно определенные сроки, отклонения от которых допускались лишь в крайних случаях. Отправной точкой для исчисления срока посева той или иной культуры в сельскохозяйственном календаре русских крестьян Латгале, как это было принято у всех русских земледельцев, а также Белоруссии, являлся ильин день, т. е. 20 июля по ст. ст. Исчисление посевных недель велось от этого дня назад (68). Период сева ограничивался обычно 12-й и 6-й неделями от «Ильи», т. е. длился с конца апреля —- первых чисел мая и по первую половину июня. Календарь предусматривал для каждой культуры ранний, средний и поздний севы, выбор которых зависел от конкретных условий. Сев на 6—7-й неделе, приходившийся примерно на 8—15 июня, считался поздним, а ранний сев выпадал на 10—12-ю неделю (до середины мая). Представление о существовавших у русских крестьян Латгале посевных сроках для основных яровых культур дает табл. 13, составленная нами по данным инвентарей имений первой половины XIX в.
Сравнивая приведенные в таблице посевные сроки яровых культур у русских крестьян Латгале со сроками, соблюдавшимися в свое время крестьянами Псковщины, можно заключить, что существенных расхождений в них не было (69). Даже иногда практи-
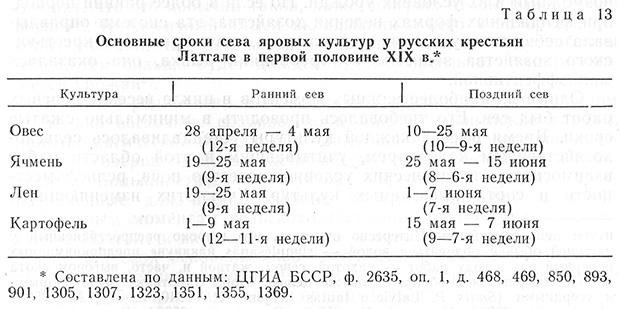
ковавшийся русскими крестьянами Латгале так называемый егорьевский сев ячменя, т. е. сев перед егорьевым днем, существовал также и у псковичей (70). Совпадали сроки сева яровых у русских крестьян Латгале, разумеется, и со сроками сева у местного населения Латгале. Лишь несколько отличными были они у латышей остальных историко-этнографических областей Латвии (71).
К концу века посевные сроки у основной массы русских крестьян Латгале почти не изменились, так как неизменными оставались условия, определявшие их.
В пределах установленных сроков особое значение русскими крестьянами придавалось выбору дня начала сева той или иной культуры. В этих случаях крестьяне исходили также не только из эмпирически накопленных ими знаний о влиянии отдельных природных факторов на произрастание хлебов, но и целого ряда магических приемов, примет.
Проведение работ по подготовке почвы к посеву озимых было также строго регламентировано. До петрова дня (29 июня) следовало поднять пар, до ильина дня (20 июля) забороновать, затем перепахать, снова забороновать и сразу же после «богородицына дня» (успенье богородицы 15 августа по ст. ст.) произвести сев.
Проведение сева после 15 августа у многих русских крестьян Латгале считалось лучшим сроком для озимой ржи. Но случалось, что сеяли ее и раньше, даже со спасова дня (6 августа по ст.ст.) (72), хотя знали, что при раннем севе из-за продолжительного вегетационного периода рожь стремительно развивалась в рост, давала хорошую солому, но в ущерб качеству зерна (73).
На Псковщине рожь начинали сеять обычно также с «богородицы». Но на хороших землях и при рано наступившей теплой весне сев производили до или со спасова дня (74).
В Латвии сроки посева ржи были несколько иными, что -объяснялось, вероятно, не столько климатическими условиями, сколько более высоким агротехническим уровнем и наличием качественных сортов озимых хлебов.
Рожь русские крестьяне Латгале сеяли под борону. В низких, сырых местах после бороны проводили еще сохой лехи (75) (борозды) для стока воды. Для сева ржи выбирали ветреный день или, как говорили староверы, с поветерьем (76).
Аналогичных примет, сопровождавших посев озимой ржи, придерживались земледельцы Белоруссии, Латвии (77). Видземские крестьяне, например, при выборе дня для посева ржи учитывали не только наличие ветра, но и его направление. Они старались посеять рожь в день, когда дул северный ветер (78).
Сведения о возделываемых русскими крестьянами сортах основных культур скудны. Во второй половине XIX в. крестьяне Витебской губернии из-за тяжелого экономического положения иг низкого агротехнического уровня хозяйствования продолжали культивировать главным образом местные, в общем малоурожайные, но достаточно приспособленные к климатическим условиям сорта культур. Так, они сеяли в основном мелкий и малорослый,, но скороспелый овес с тонкой кожурой. Улучшенный сорт овса с 'крупным зерном, так называемый одногривец, во второй половине XIX — начале XX в. хотя и был им известен, употреблялся: мало, так как ему был свойствен более длительный вегетационный период и он не успевал в условиях Латгале за лето вызреть, особенно при холодной погоде. Имело значение для крестьян и то обстоятельство, что цены на семена этого сорта овса были высокими.
Во второй половине XIX в. в Витебской губернии, в том числе- и в Латгале, русские крестьяне сеяли 4—6-рядные (число рядов; зерен в колосе) скороспелые сорта ячменя (79). Двухрядный крупнозернистый ячмень стал выращиваться у них много позднее. В Латгале всеми крестьянами культивировался простой, мелкозернистый: сорт озимой ржи. Такие дорогостоящие сорта, как пробштейская, ивановская, кустовка, ваза, крестьяне сеяли мало. Яровую рожь- представляла мелкая и малоурожайная ярица. Во второй половине XIX в. знали и крупнозернистую гессельдорфскую яровук> рожь, но семена ее также стоили дорого, и для простых крестьян она была недоступна. Пшеницу сеяли летнюю и зимнюю. Из сортов озимой пшеницы предпочитали остистую, или по-местному усатую, как наиболее урожайную.
Распространенными во второй половине XIX в. сортами картофеля были скороспелка, белый сахарный картофель, альфа и поздний черный картофель, который хотя и не давал больших урожаев, но отличался хорошими вкусовыми качествами (80).
Из известных двух видов льна — льна-долгунца и льна-куд- ряша в Латгале, как на Псковщине и в остальной Латвии, культивировался лен-долгунец, который использовался главным образом для получения волокна, в то время как лен-кудряш возделывался как масличная культура.
Горох сеяли в основном серый, мелкий и меньше — белый, так как он плохо переносил утренние заморозки.
Перечисленные сорта злаковых, а также стручковых культивировались в прошлом и в остальной части Латвии, но латышские крестьяне, особенно зажиточные, значительно раньше, чем русские Латгале, осуществили переход к более дорогим и качественным сортам, нередко привозимым из-за границы.
Помимо качества почвы, подготовки ее к севу, способов сева и заделки семян, посевных сроков и других моментов важное значение в агротехнике имеет густота посева, т. е. норма высева культур на десятину пашни. Эта норма определяется целым рядом факторов: природно-климатическими условиями, уровнем агротехники, качеством семян и сортов возделываемых культур, а также экономическими возможностями земледельца. Но, несмотря на изменчивость данных факторов, для каждого района с течением времени выработались более или менее устойчивые средние нормы высева.
В Витебской губернии в хозяйствах всех категорий крестьян в первой половине XIX в. на 1 дес. высевалось: ржи — 9—11 пудов, ячменя — 8—10, овса — 11 —12, льна — 3 пуда, картофеля — 100—120 пудов (81).
Указанные нормы считались крестьянами наиболее оптимальными в их условиях; правда, посевы озимого хлеба в 9—11 пудов они считали слишком густыми, но сеять реже боялись, так как мог быть очень низким процент всхожести семян из-за их плохого качества, недостатка удобрений и не совсем качественной обработки земли. Высевать больше нормы также не пытались, ибо тогда хлеб мог бы вырасти слишком густым и полечь. Для овса практиковали более густые посевы — тогда он меньше забивался сорной травой. Если сравнить средние нормы высева хлеба в Латгале с аналогичными данными по Псковской губернии, а также остальной части Латвии, то значительных расхождений не выявляется, что говорит об идентичности условий, влиявших на эти нормы (82). Нормы высева у русских Латгале и псковичей различались лишь в отношении льна. На Псковщине в крестьянских хозяйствах его посевы были более густыми (4—6 пудов), чем з Латгале (83). Считается, что редкий засев льна дает больше семени, но качество волокна при этом снижается. Вероятно, псковские крестьяне, занимавшиеся в тот период производством льна на продажу, в большей степени, чем русские Латгале, стремились, пренебрегая качеством семени, получить как можно больше высококачественного волокна и поэтому, видимо, сеяли лен густо. Крестьяне же Латгале, устанавливая норму высева, исходили из стремления получить не только волокно, но и семя для приготовления масла.
К концу XIX в. средние нормы высева зерна по основным культурам (рожь, ячмень) почти не изменились (84). Некоторые изменения произошли в отношении льна и овса. Высев льна увеличился с 3 до 4,5—5 пудов (85), т. е. крестьяне перешли к более густым посевам его, что говорит о возросшем значении льна как доходной культуры, пренебрегать товарным качеством которой было уже нельзя. Норма высева овса увеличилась с 11—12 пудов в первой половине XIX в. до 12,5—13,5 пуда в конце XIX в.
К севу, как особо важному и ответственному моменту в жизни, крестьяне соответствующим образом готовились: чинили сельскохозяйственный инвентарь, готовили семена, подкармливали к предстоящим работам отощавших за зиму лошадей и т. д. Однако и в этой сфере сельскохозяйственных работ успех дела зависел, по мнению земледельцев, не только от своевременно проведенных подготовительных работ, но и от соблюдения различных обрядов, обычаев, которые были связаны с их древними повериями.
Правда, во второй половине XIX в. у русских крестьян Латгале уже не было того разнообразия магических приемов, сопутствовавших севу, которыми так изобиловала, к примеру, жизнь их соседей белорусов. Это можно, видимо, объяснить особым воздействием старообрядческой церкви на быт верующих, которая всячески старалась искоренить, как она утверждала, «бесовские» обряды, восходящие к язычеству, и заменить их обрядами христианской церкви. Сыграло роль и то обстоятельство, что русские земледельцы Латгале свой труд в хозяйстве сочетали с отхожими промыслами неземледельческого характера, надолго отрывавшими их от деревни.
Несколько колоритнее кажется обрядовая сторона сельскохозяйственных работ в Режицком уезде. Большей сохранности здесь как древних, так и церковных обрядов содействовали, на наш взгляд, два обстоятельства: более слабое, чем в Двинском уезде, развитие капиталистических отношений, сопровождавшееся реорганизацией сельского хозяйства, и отсутствие в прошлом военных поселений, в которых нищета, военная муштра, исполнение работ под наблюдением военачальников способствовали исчезновению самих условий для исполнения сельскохозяйственной обрядности. Так, к концу XIX в. русские крестьяне Латгале уже не знали магических обрядов очистительного характера (например, мытья: в бане накануне сева, присущего всем русским, белорусам), забытыми оказались и многие обычаи запретного характера, за исключением таких незначительных, как, например, запрет давать, накануне сева что-либо взаймы соседу, чтобы не передать вместе с этим удачу (86), зажигать огонь, топить печь перед началом сева, чтобы злаковые культуры не поразила головня. К числу исчезающих во второй половине XIX в. древних обрядов следует отнести обычай начинать сев озимого хлеба семенами, к которым примешивали намолоченные зерна или из первого сжатого снопа ржи, освящавшиеся к тому же верующими в моленной (87), или из прошлогоднего венка, который плели из ржаных колосьев по окончании жатвы (88). Зерна из венка всыпали в семена украинцы и белорусы (89).
Несколько строже во второй половине XIX в. соблюдался русскими крестьянами древний обычай, носивший охранительный характер. Согласно существовавшему у них поверью, нельзя было начинать сеять одновременно с соседом по полосе, так как один хозяин мог «насеять» на другого и таким образом отвлечь будущий урожай на свое поле. Это приводило к тому, что каждый стремился начать сев незамеченным, тайком. Но так как практически это сделать было трудно, то возник обычай прекращать работу при неожиданно появившемся на соседней полосе сеятеле и выжидать, пока он не закончит сев. При этом крестьянин высыпал семена на землю, ставил лукошко кверху дном, садился на него и делал вид, что закончил сев. И только после окончания работы соседом он мог продолжить свою.
Территориально обычай начинать сев незамеченным выходил за пределы Латгале. Он существовал у староверов всей Витебской губернии, прибегали к нему в прошлом и белорусы северо-восточ- ных областей (90). Правда, у белорусов существовало отличие в приемах предотвращения «зла», якобы наносимого приходившим сеяте- .лем. Если в Латгале начавший первым сеять хозяин при появлении .другого сеятеля прерывал работу и садился на перевернутое лукно, то у белорусов было принято при этом перематывать на ногах онучи так, чтобы конец онучи, прикрывавший пяту, теперь приходился на пальцы. В некоторых местах в подобной ситуации бросали в сеялку поверх семян три горсти земли и продолжали сеять, лнепча заклинание, чтобы у соседа, который пришел вторым, ростки ржи пробивались вниз, а корни росли вверх. В таком случае .неурожай должен был обратиться на ниву последнего (91).
Обычай начинать ту или иную сельскохозяйственную работу тайком от людей с целью сохранения урожая был в прошлом общим для ряда славянских народов. Известно, например, что по- ,ляки тайком от соседей перевозили с поля первый воз хлеба, исполняя эту работу вечером или даже ночью, когда все спали (92).
Вера в возможность того, что один хозяин мог отвлечь урожай на свое поле с нивы другого, существовала в прошлом также у .латышских крестьян. Но латышские обычаи, вызванные к жизни этими верованиями, несмотря на их общий характер с описанными выше русским и белорусским обычаями, имели свои нюансы. Так, например, латышский крестьянин для предотвращения «отсева» переворачивал не сеялку, а мешок с семенами (93).
Несмотря на внешние различия обычаев русских, белорусских и латышских крестьян, суть их была общей. В действиях переворачивания в одних случаях сеялки с зерном, в других — мешка с зерном, в третьих — онучи на ноге был скрыт прием имитатив- ной магии, предотвращающий проращивание зерна в неправильном направлении, которое неизбежно случалось, по верованиям крестьян, при одновременном засевании пашин несколькими крестьянами.
К началу XX в. у большинства русских крестьян Латгале, и в первую очередь крестьян-отходников, на мировоззрение которых оказывал влияние городской пролетариат, этот обычай был уже изжит. У верующей же части крестьян его заменил церковный ритуал, состоявший в молитве, которую читали перед началом сева,, как, впрочем, и всяким другим сколько-нибудь значительным: делом.
Показателем производительности земледелия является урожайность культур. В силу скудости почв Латгале, малоблагоприятных, климатических условий, отсталой техники обработки земли, невозможности соблюдения нужных норм высева и, часто, сроков; сева и жатвы, нехватки удобрений и использования примитивных сельскохозяйственных орудий урожайность крестьянских полей: была низкой как в первой половине XIX в., так и после отмены крепостного права. И только в самом конце XIX — начале XX в., и в первую очередь в хозяйствах зажиточных крестьян, где значительно улучшилась обработка земли, урожаи несколько возросли.
Как видно из инвентарей, в первой половине XIX в. средний: урожай как озимых, так и яровых у крестьян большинства помещичьих имений составлял в основном сам-3. И только в отдельных имениях, с более плодородными землями, показатели урожайности были несколько выше (94). Имеющиеся в некоторых инвентарях сведения о средней за десятилетие урожайности также подтверждают низкую производительность крестьянских хозяйств. Так, например, у крестьян имения Андрепно Режицкого уезда средняя' урожайность озимых и яровых хлебов за 10 лет (с 1837 по 1846 г.) составляла сам-3 ’/г, картофеля — столько же, а в имении Доротполь того же уезда — соответственно сам-4, сам-31/2 и сам-З' 1/2 (95)
По данным РГО 70-х гг. XIX в., в большинстве волостей Режицкого и Люцинского уездов урожай составлял в среднем сам-
3—4 для озимых и сам-2—3 для яровых (96), что говорит об устойчивости показателей урожайности. Объяснялось это тем, что урожайность по-прежнему зависела от количества скота в хозяйствах, а его в бедняцко-середняцких дворах не прибавлялось. Несколько выше в 70-е гг. была урожайность у крестьян Варклянской волости Режицкого уезда (в среднем сам-5), Бальтиновской и Эверемуйж- ской волостей Люцинского уезда (сам-5—6, сам-4—7) (97). Но здесь основную массу крестьян составляли мелкая шляхта и латыши,, переселенцы из Видземе, которым была присуща более высокая культура земледелия. В Динабургском уезде урожай определялся в среднем в 4 зерна (98), но относительно Малиновской волости, где было сосредоточено главным образом русское население (бывшее военное поселение), говорилось, что «урожаи здесь низкие, так как поля истощены за неимением навоза» (99). Данные РГО в основном совпадают с показаниями информаторов. По их утверждению, хорошим считался урожай, который превышал высев в 4—5 раз, но такой урожай был не всегда и не у всех хозяев (100).
В целом показатели урожайности в Латгале по сравнению с таковыми в остальной части Латвии и 50 губерниях Европейской России были самыми низкими, и Витебская губерния входила в число губерний, в которых при средних урожаях хлеба не хватало на весь год (101). Запасов ржи на новый посев почти ни у кого из крестьян (малоимущих и средних) не оставалось, и обсеменение производилось всегда семенами нового урожая. В таких случаях неурожай настоящего года мог пагубно сказаться и на урожае следующего года (102).
Уборочные работы у многих русских крестьян Латгале начинались при благоприятных погодных условиях (при теплой весне и теплом лете) с ильина дня, т. е. 20 июля по ст. ст. Первым начинали убирать озимый хлеб. Страда продолжалась обычно до «бо- городицына дня» (15 августа по ст. ст.). К этому времени сжатый хлеб должны были уже свезти с поля. С окончанием жатвы ржи почти сразу же приступали к уборке ярового хлеба. Очередность уборки каждой из яровых культур определялась временем их созревания. Первым поспевал, как правило, ячмень, и к середине или 20-м числам, а иногда к концу августа его успевали убрать. Затем наступала пора теребления льна. Это происходило также в августе. При раннем севе уборку льна начинали в первых числах месяца, при позднем — в конце его. Последними (в начале сентября) чаще всего убирали горох, овес и тем завершали уборку яровых хлебов, после чего готовились к копке картофеля. С уборкой картофеля и огородных овощей в октябре кончались уборочные работы на полях. Но это не означало окончания всего цикла сельскохозяйственных работ. Он завершался лишь с наступлением зимы, после молотьбы хлеба и обработки льна.
Жатва, как и сев, у русского, а также у многих европейских народов сопровождалась целым комплексом обрядовых действий, отличавшихся особым разнообразием и красочностью оформления. Это вполне понятно, так как в жатвенных обрядах нашли отражение, с одной стороны, радость, ликование земледельца в связи с окончанием сбора урожая, а с другой — забота об урожае будущего года.
Но, несмотря на то значение, которое придавалось этим обрядам, к концу XIX в. у земледельцев многих европейских народов жатвенная обрядность начала постепенно отмирать, забываться и вместо целого комплекса дожинального (или дожинного) обряда •сохранились лишь отдельные его элементы. Это в полной мере относится, как ни странно, и к русским старожилам Латгале, быт которых отличался, как известно, особым консерватизмом. Практицизм русских крестьян Латгале в делах, прямо связанных с хлебом, его своевременной и качественной уборкой, диктовался, видимо, особыми условиями, в которых они находились, — частыми недородами, нехваткой у малоземельных крестьян рабочих рук в связи с отходом работоспособных мужчин в города на заработки, постоянной нуждой.
Процесс отмирания коснулся у них обрядности, связанной как с началом жатвы, так и с ее концом.
Из зажимного обряда, т. е. обряда, относящегося к началу жатвы, в Латгале на рубеже веков русскими крестьянами, но далеко уже не всеми, соблюдались лишь некоторые элементы ритуала, связанного с первым снопом ржи. Зерна из этого снопа одни крестьяне подмешивали в семена, так как они, по их мнению, обладали особой силой, другие варили из них кашу (иногда для нее употребляли даже недозрелую, зеленую рожь), отведав которой приступали к основной жатве. Вера русских женщин Латгале в делительную силу первого снопа породила у них обычай опоясывать стеблями из него спину, чтобы она не болела во время жатвы. Однако обычая украшать первый сноп ржи, торжественно нести его в дом, а также других относящихся к нему ритуалов у русских Латгале в конце XIX в. уже не прослеживалось. Но и перечисленные элементы не являлись особенностью зажинного обряда, свойственного только им. Они были характерны для всего русского, а также для многих славянских и других европейских народов (103).
Жатву озимого хлеба было принято завершать устройством дожинок, или пожинок — в Латгале (104). Пожинки в той форме, которая соблюдалась русскими Латгале во второй половине XIX в., представляли собой коллективную взаимопомощь соседей (женщин) при уборке хлеба. В большинстве случаев жницы (в Латгале :жнейки) шли на пожинки без приглашения хозяина, сговорившись лишь между собой. Завершив уборку хлеба, жницы с пожинными песнями отправлялись с поля к хозяину, который в знак благодарности за помощь угощал их. Непременным блюдом на пожинках была яичница, или, как ее называли некоторые старожилы, се- лянка (105), а также каша, блины.
Магическую часть дожинального обряда у русских крестьян Латгале, как у всех русских, а более широко — у восточных славян, латышей и других европейских народов, составлял ритуал с оставляемым несрезанным последним снопом ржи, так называемой пожинальной бородой, в зерна которой, по убеждению земледельца, переходила плодородящая сила земли. Чтобы вернуть эту силу земле, надо было выполнить над бородой ряд ритуальных действий. У разных народов, как и у различных локальных групп русских, эти действия носили различный характер, так же как неодинаковыми были и их набор, структурная организация и мотивированность.
Собранный полевой материал, который, к сожалению, оказался весьма скудным из-за плохой сохранности обряда, позволяет предположить, что у русских крестьян Латгале, в отличие от других групп русских, ритуал с последними колосьями существовал в самой простой форме. Бороду как таковую они не делали, в конце жатвы на поле оставляли на некоторое время несжатыми последние стебли с колосьями, обходя их кругом, для того чтобы был спор (спорина) на будущий год (106). Этого обычая придерживались и при уборке огородных, садовых культур, для чего оставляли в земле или на дереве несколько плодов. Не существовало у русских крестьян Латгале и ритуала посвящения этих колосьев, что было принято у большинства русских (107), так же как, видимо, не было (во всяком случае, не сохранилось в памяти) и самого названия «борода». Завершались пожинки у русских Латгале срезанием последних стеблей хлеба и плетением венка, иногда еще и пояса„ которые вручались хозяевам нивы. Обычай изготовления венка, пояса являлся стабильной, повсеместно распространенной и сохранявшейся вплоть до XX в. частью дожинального обряда русских Латгале.
Гораздо слабее прослеживался в конце века другой ритуал дожинального обряда — оплетание жницами после жатвы серпов соломой, колосьями, цветами и перебрасывание их через голову. Оплетая серпы, одни жницы как бы вознаграждали их этим за тог что они не порезали им руки во время жатвы, другие верили, что у них благодаря этому будут коровы рогатыми.
Сравнение воспроизведенного нами в самых общих чертах дожинального обряда русских крестьян Латгале с аналогичными описанными в литературе обрядами других локальных групп русских (108) позволяет утверждать, что он существенно отличался от последних как по набору элементов, так и по их структурной организации в обряде. Например, от дожинального обряда русских северных и северо-восточных районов страны обряд старожилов Латгале отличался тем, что в нем отсутствовали ритуалы изготовления «постели с шапкой», последнего снопа, акты изгнания из жилища насекомых и кувыркания по ниве (109). Правда, отдельные элементы из перечисленных выше обрядов у них наблюдались, но совершались они или самостоятельно, не будучи приуроченными к дожинальному обряду, или несли другую мотивировку. Так, например, совершаемый русскими Латгале акт кувыркания приурочивался не к жатве, т. е. к осени, а к весне, когда раздавались раскаты первого грома или когда видели прилет первого аиста, по-местному ботьянаи (110), и делали это не с целью обеспечения урожая на будущий год, как в случаях, когда данный акт являлся составной частью обряда, а с медико-профилактической: чтобы не болела спина (111). При этом кувыркались, или, как говорили в Латгале, кулялись, кулигались (112), и молодые женщины, и парни. Как самостоятельный акт кувыркание у русских бытовало на довольно широкой территории, но, к сожалению, точные границы ее не определены. Известно только, что такой обычай существовал в Вологодской, Ярославской и Псковской губерниях, а также у части украинцев (113).
Не прослеживалось в дожинальном обряде русских Латгале и черт, типичных для юго-западного или южного вариантов обряда (помещение хлеба и соли возле пожинальной бороды, прополка бороды, пригнетание ее колосьев к земле и т. д.). Но в их обряде проступали черты, объединяющие его с белорусско-украинской жатвенной обрядностью. К ним прежде всего следует отнести обычай оплетания после жатвы серпов (114) и обычай плетения венков, поясов, о которых говорилось выше. Но эти элементы, видимо, нельзя считать исключительно белорусско-украинскими. Исследователями установлено, что плетением венков оканчивалась жатва не только на белорусско-украинской территории, но и в части (правда, весьма ограниченной) районов русского юга (115) и, по нашему предположению, в ряде мест русского запада. Обычай же оплетать серпы (как отдельный, без сопровождающих его ритуалов акт) у русских наблюдался в районе Пскова, частично в Московской губернии и в некоторых других районах! (116). Со псковским у русских Латгале совпадал один из вариантов интерпретации этого ритуала («чтобы коровы были рогаты» (117)), второй же («что не порезал руки») был близок к ритуалу, принятому в Московской губернии (118). В то же время рассмотренные элементы роднили дожинальный обряд русских Латгале с таковым у латышей, и это прежде всего относилось к ритуалу плетения венков, который, в; отличие от обычая украшать серпы, наблюдавшегося у латышей только Латгале, прослеживался на всей территории Латвии (за: исключением, однако, Курземе, в отношении которой нет данных о дожинальном обряде). Но и Латвией не ограничивался ареал обычая плетения дожинальных венков, он захватывал территорию, на которой жили литовцы, западные славяне, немцы и венгры (119).
Ограниченность бытования данного обычая у русских и широкое распространение его среди белорусов и украинцев, которые имели непосредственные контакты с западными славянами, а через них — с западными неславянскими народами, наводит на мысль о появлении его у восточных славян с запада. Но в общем это требует специального исследования. В целом дожинный обряд, латышских крестьян, несмотря на указанные общие элементы, отличался от русского. Прежде всего в латышском обряде четко проявлялась идея олицетворения плодоносной силы земли, что его больше объединяло с обрядами западно-европейских народов. Анимистические представления латышей конкретное выражение находили в образе некоего живого существа, называемого юмисом. С ним и с последними колосьями, в которых он прятался, и были связаны основные ритуальные действия латышского дожинного обряда (120). Как видно из сказанного, общими у русских и латышей являлись лишь отдельные ритуалы обряда.
В заключение следует сказать, что, несмотря на установленные факты, судить о типе и происхождении дожинального обряда русских Латгале преждевременно, тем более что в литературе отсутствует описание как северо-западного и западно-русского вариантов обряда вообще, так и псковского в частности. Можно лишь констатировать, что жатвенная обрядность их не содержала в себе всех черт ни северно-русского, ни южно-русского обряда.
С дожинальным обрядом русских крестьян Латгале, как и всех восточных славян, а также латышей тесно был связан обычай устройства на ржаной ниве так называемых заломов, с помощью которых якобы причиняли вред людям (121).
Заломы, по мнению русских старожилов, делали женщины- колдуньи на ржаном поле, скручивая вместе несколько колосьев, заламывая и пригибая их к земле, т. е. так же, как многие русские делали пожинальную бороду, приносившую добро людям. Хозяйке нивы, жнице достаточно было прикоснуться к залому или, не заметив, сжать его, чтобы обречь себя на страдания от болезни, во время которой человека «ломало», «скручивало», «выворачивало» глаза.
Существовала у старожилов Латгале вера в порчу, передачу болезней и через ржаные заломы, подбрасываемые к порогу дома (122).
По сообщению информаторов, у русских старообрядцев совершались обряды с заламыванием ржи и с другой целью — отобрания чужого урожая. Их исполняли также женщины-колдуньи, но чаще в ночь на Иванов день. Следует отметить, что этот момент — вера в активные действия колдуний и прочих злых сил, от которых надо было охранять себя, семью, жилище, посевы и скот, в канун Иванова дня — был общим для всех славянских народов (123); верили в возможность причинения зла колдуньями в Иванову ночь и латышские крестьяне (124).
Чтобы обезвредить залом, лишить его действенной силы, надо было во время жатвы оставить нетронутой полоску заломленной ржи. Иногда, чтобы «отделать» (обезвредить) залом, приглашали знахаря, который сжигал залом на корню. В некоторых местах Латгале (у русских) знахарь на поле сжигал ступицу от колеса телеги вместе со срезанным заломом, т. е. поступал так, как было принято у крестьян Костромской губернии, когда хотели иссушить колдуна, сделавшего, правда, не залом, а пережин (срез колосьев) (125). У староверов деревень Рачино, Жидино Малиновской волости Двинского уезда, для того чтобы обезвредить залом, знахарь выкручивал его из земли с помощью осиновых вилок (126) и наматывал на ось колеса телеги, а затем ездил на ней до тех пор, пока не перетиралась солома, в результате чего колдуна «вертело», «крутило» так, что он был не в состоянии уже причинять людям зло.
«Обнаруживали» в прошлом латгальские старожилы на своих нивах кроме заломов и прожины в виде тянувшихся с угла на угол ржаного поля черных из-за якобы срезанных колосьев тропинок. По верованиям крестьян, с помощью прожинов колдуны также отбирали урожай в поле. Делалось это тоже в ночь на Иванов день. Подобный способ отбирания урожая — явление, присущее в прошлом всем русским крестьянам, в том числе и псковским. Веру в магическую силу заломов отдельные исследователи связывают с существованием в древности обычая, когда старшие рода, оберегая от людей хлеба в поле в период их созревания, накладывали на него табу. Заломы же, завязанные определенным образом вокруг поля, предостерегали тех, кто раньше времени попытался бы сжать хлеб. Впоследствии охранительная функция заломов трансформировалась в сознании людей и приобрела значение колдовского знака, якобы наводящего на людей порчу (127).
Итак, мы рассмотрели цикл работ русских крестьян Латгале, связанных с их основной отраслью хозяйства — земледелием. Изложенный материал позволяет заключить, что в системах земледелия, агротехнических приемах и трудовых навыках, применявшихся русскими старожилами во второй половине XIX в. при обработке земли и возделывании ведущих у них культур, было много рутинного, архаичного, уходящего своими корнями в далекое прошлое. Об этом же свидетельствует и тот факт, что русские земледельцы, находившиеся в зависимости от непонятных для них сил природы, в своей практической деятельности большое значение в этот период придавали не только церковным, но и различного рода магическим обрядам, восходящим к язычеству. Вся эта архаика, надо полагать, была вынесена с территории, откуда родом были русские пришельцы.
Возможность использования усвоенного от предков сельскохозяйственного опыта в новых местах поселения была обусловлена сходными природно-климатическими условиями, близостью земледельческой культуры пришельцев к культуре местного населения Латгале. Но главная причина низкого уровня земледелия крылась в социально-экономическом положении, в котором оказалось большинство русского крестьянства в Латгале.
Распространению более совершенных приемов земледелия в крестьянских хозяйствах мешали малоземелье, крепостническая система хозяйства, а после отмены крепостного права наличие большого количества его пережитков, остатков барщинного хозяйства — отработок, сервитутов, чересполосицы, в отдельных районах — общинной формы земледелия, а также высоких выкупных платежей, налогов. И только к концу XIX — началу XX в., с развитием капитализма, в хозяйстве зажиточных русских крестьян, в основном бывших государственных крестьян, вышедших на хутора, арендаторов, стали вводиться более усовершенствованные приемы земледелия. Прежде всего в хозяйствах указанных групп крестьян начался переход от трехпольной к более сложным системам земледелия — четырехпольной с травосеянием, а иногда и многопольной. В этот же период улучшаются обработка и удобрение почв, что достигается введением новых, усовершенствованных орудий труда и использованием искусственных удобрений. С появлением пружинных борон землю стали не только пахать, бороновать, но и лущить. Кроме того, начали практиковать для яровых культур вспашку земли с осени под зябь, там, где требовалось, вместо двоения — троение земли и т. д. При подготовке глинистых почв к посеву после пахоты проходили по полю с впряженным в лошадь катком для разбивки комьев засохшей глины. Улучшился и задел семян. После посева землю прибивали круглыми гладкими катками, от чего земля меньше сохла и ее поверхность становилась ровной, более удобной для уборки урожая. Наряду с естественными стали использоваться искусственные удобрения:
калийная соль, суперфосфат, туки. Впервые стала практиковаться подкормка земли под яровые культуры.
Накопление агротехнических знаний, введение новых, улучшенных сортов культур потребовали совершенствования сельскохозяйственного календаря, изменения сроков проведения посевных и уборочных работ. Все эти новшества положительно сказывались на урожайности полей. Но отступление от многовековых традиции в области земледелия происходило, как было замечено, только у состоятельной части русских крестьян Латгале. Основная же масса русских земледельцев, которую составляли малоземельные крестьяне, придерживались, как уже говорилось, в своей практике традиционного опыта. Но в этой социальной группе русских, для которой был характерен высокий процент отходников в города на заработки, быстрее происходил процесс отмирания религиозных верований, отказа от церковных обрядов и магических ритуалов, которыми сопровождались отдельные циклы сельскохозяйственных работ.
Использовавшиеся русскими старожилами Латгале традиционные трудовые приемы, навыки в этнографическом отношении были очень близки к соответствующим приемам и навыкам земледельцев западно-русской (особенно Псковской губернии), частично — средней и северно-русской полосы России. Особенно показательны в этом плане календарная обрядность и сельскохозяйственная лексика русских Латгале.
Следует также отметить, что в традиционной агрокультуре населения указанного ареала наблюдались явления, общие не только с агрокультурой восточных славян, и в первую очередь белорусов,, но и других соседних народов, особенно латышей, литовцев, эстонцев, что объяснялось идентичностью условий, влиявших на ее выработку, тесными хозяйственными и бытовыми контактами, которые существовали между этими народами.
Каждой системе земледелия соответствуют определенные сельскохозяйственные орудия. Так, при подсеке применялись одни типы орудий, при трехпольной системе — другие, более совершенные.
Основным пахотным орудием при трехпольной системе земледелия у многих народов, в том числе и у русского, являлась соха. Применялась она и в Латгале как русскими крестьянами, так и местным латышским населением. По утверждению специалистов, простота устройства, легкость, дешевизна сохи, наконец, возможность использования ее для выполнения многих других, а не только пахотных работ делали этот тип древнейшего пахотного орудия

универсальным в крестьянском хозяйстве. Устойчивости ее бытования способствовали также и социально-экономические причины — бедность, малоземелье крестьян и сохранявшаяся длительное время мелкополосица (128).
Соха, использовавшаяся русскими крестьянами Латгале, совсеми ее конструктивными особенностями почти не отличалась от сохи крестьян средней полосы европейской части России, северо- восточной Белоруссии, а также восточной Латвии. Двухлемешная соха с перекладной полицей, но с некоторым своеобразием в; формах, размерах и пропорциях отдельных ее частей была распространена и в остальных историко-этнографических областях Латвии, частично в Литве и Эстонии. Сходство в устройстве сохн на столь обширной территории и у разных этнических общностей является результатом сходства условий, в которых складывался данный тип земледельческого орудия.
По своему виду соха всех крестьян Латгале относилась к сохам с перекладной полицей, или отвалом (отвал можно было переставлять с одного сошника на другой). По числу сошников это. была двухлемешная соха, а по их форме — так называемая коло- вая соха, имеющая сравнительно длинные и узкие, в отличие от перовой, сошники. По устройству корпуса соха русских крестьян. Латгале относилась к сохам, которые в литературе принято называть корешными. У этого вида сох рассоха устанавливалась- между двумя поперечными перекладинами — вальком, или рогалем, и корцом (общелитературные названия), а оглобли прикреплялись к вальку (рис. 3). По конструкции же управляющей и: тяговой частей соху русских, как и остальных крестьян Латгале, можно отнести, согласно терминологии составителей «Историкоэтнографического атласа Прибалтики», к сохам с низким положением рукоятки и короткими оглоблями (129). Касательно сохи русских Латгале своеобразие проявлялось, пожалуй, только в терми- .нологии, употреблявшейся для обозначения ее частей.
Для основной рабочей части корпуса сохи — рассохи с насаженными на нее железными лемехами русские Латгале употребляли термины лемешница и лемех (130) (псковские названия — лемесница, плотиво, плотивина и лемех, или лемеш (131)), для отвала, делавшегося в виде железной лопаточки на деревянной рукоятке, — присох (132) и для оглоблей примерно в 1/2 м длиной — обжи (133).
Перекладины, между которыми устанавливалась лемешница, назывались по-разному: верхняя перекладина, концы которой служили ручками, — рогачом (134), ручками (Корсовская вол. Люцинского у., частично Режицкий у.), нижняя — подрогачником или корцом (135) (псковские названия — подрогачник (136), корец, коречек).
Несколько разных названий у русских крестьян Латгале прослеживалось и для обозначения подвоев, т. е. двух сложенных крестообразно металлических, а в более ранний период — деревянных или витых из веревки прутьев, необходимых для более прочной установки лемешницы и для регулирования глубины вспашки, а также для укрепления отвала. У подавляющего большинства староверов Латгале подвои назывались землянками, а у православного населения Люцинского уезда — тягами, натягами, подтяжками (137), матюгами или матиками, т. е. терминами, которые были характерны для населения многих районов Псковской губернии (138). Укоренению у староверов Латгале термина землянки могли; способствовать выходцы из Тверской, Новгородской губерний, не исключено, что и из Псковской губернии (Торопецкий у.), где он был зафиксирован исследователями (139). Этот термин был распространен и в северо-восточной Белоруссии (140).
Приведенная терминология сохи, как следует из сказанного* была типична для вполне определенной территории. Она была распространена в основном в губерниях, составлявших западно- русский регион, и в первую очередь в Псковской, юго-западной: части Новгородской и на западе Тверской губерний, в лексике населения которых прослеживались также следы общности с лексикой белорусского и латышского народов. Бытование ее в Латгале связано, надо полагать, с пришельцами из западно-русских районов.
Весьма архаичным типом орудия, используемого во второй: половине XIX в. русскими крестьянами Латгале, являлся резак. Его применяли для подъема задерненных участков земли, или, как говорили староверы Латгале, дервана (141). По конструкции резак: напоминал однолемешную соху с ножом и без отвала. Этот вид орудия был распространен, видимо, на той же территории, что и двухлемешная соха с перекладной полицей. Во всяком случае, имеются сведения о его бытовании в северо-западных областях России, северо-восточной части Белоруссии и в Латвии (142).
До 60—70-х гг. XIX в. русские крестьяне Латгале для обработки земли употребляли еще два вида старинных орудий, одно из которых по своему происхождению было связано, как и резак, с лодсечно-огневой системой земледелия. Это был простейший вид рычага — жердина с заостренным концом, называвшаяся вагой (143). Ею выкорчевывали предварительно окопанные пни. Вторым видом ручного орудия, употреблявшегося в прошлом также многими народами, у русских Латгале был деревянный молот с длинной ручкой. Им разбивали глыбы земли. По мнению исследователей, этот вид орудия, характерный преимущественно для северных районов страны, был связан исключительно с пашенным земледелием, так как крупные глыбы моглн образовываться только при вспашке земли сохой или плугом (144). Используемые в Латгале названия для этого молота — побоешка, ковка, тукмач — также были связаны с вполне конкретной территорией (145).
В конце XIX в. в зажиточных хозяйствах, связанных с рынком, описанные выше орудия для возделывания почвы как малопроизводительные выходят из употребления, их заменяют более совершенные орудия труда: железные плуги, рубчатые катки с упряжью в одну лошадь (для разбивки комьев земли), которые в помещичьих имениях Латгале применялись уже в первой половине XIX в. (146)
Для рыхления и перемешивания земли после вспашки, заделки семян русские крестьяне Латгале во второй половине XIX в. использовали также малопроизводительные орудия труда. Ими были деревянные бороны (147), представленные тремя типами: суковатками, плетеными и рамными боронами.
Наиболее древним типом бороны, которая своим происхождением была связана с подсечной системой земледелия и которую еще можно было встретить в этот период у русских Латгале, являлась борона-смык. Авторы атласа Прибалтики относят ее к типу борон-суковаток. Борона-смык делалась из нескольких расколотых вдоль и связанных вместе еловых брусков, или, по местной терминологии, смычин, снарвин (148), с сучьями, служившими в бороне зубьями. Это была длиннозубая (длина зубьев, не менее 30— 60 см) борона-смык. Такие бороны в прошлом были известны многим народам лесной зоны Северной и Восточной Европы (149), занимавшихся подсечным земледелием. Предшествовавший ей вид — суковатка-вершалина, которая представляла собой верхушку елового ствола с обрубленными до определенной длины сучьями, у русских Латгале к концу XIX в. не сохранился, но о том, что такая примитивная борона существовала ранее, свидетельствует оставшееся в памяти информаторов ее название — верховка (150).
Более совершенной конструкцией отличались плетеные и рамные бороны, характерные для постоянных полей паровой системы земледелия. Плетеная борона делалась из сложенных крестообразно березовых или еловых планок, в места пересечения которых вставлялись дубовые зубья — суки, переплетавшиеся для укрепления их в бороне (отсюда название) орешником. Такая плетеная борона состояла из 4—5 рядов планок. Оглоблями в ней служили удлиненные боковые жерди, к которым привязывались постромки, вследствие чего она относилась к боронам (по терминологии атласа Прибалтики) с неподвижной тяговой частью. Данный вид плетеной бороны был известен помимо русских латышам Земгале и Латгале, литовцам северной и северо-восточной Литвы (151).
Преобладающим типом бороны у русских крестьян Латгале во второй половине XIX в. являлась рамная борона, появление которой связано с реорганизацией крестьянского хозяйства, вызванной развитием товарно-денежных отношений. Подчинение хозяйства интересам рынка потребовало более производительных орудий труда. Основной конструктивной частью этого типа борон являлась продолговатая четырехугольная деревянная рама с укрепленными в ней четырьмя поперечными (относительно хода лошади) перекладинами с деревянными или железными зубьями (рис. 4). По способу крепления тяги рамная борона русских крестьян Латгале относилась к боронам с неподвижными оглоблями. Ареал такой бороны во второй половине XIX в. — западно-русские области, северная Белоруссия, северная и восточная части Латвии, южная Эстония (152). При переходе к многопольной системе земле-
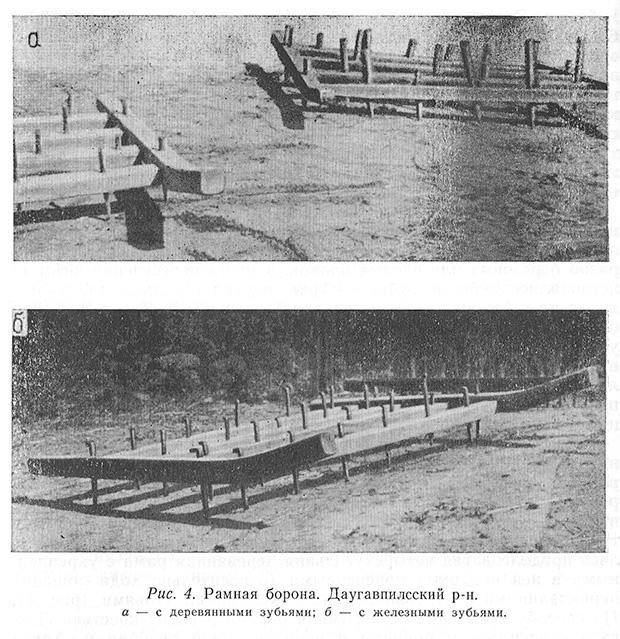
делия этот тип бороны в конце века у зажиточных крестьян заменяется пружинной бороной и культиватором, который русские Латгале называли трапаком, а русские Литвы — драпаком.
Набор традиционной, довольно примитивной сельскохозяйственной техники, используемой для обработки почвы, дополняла орудия ручного сева, представленные во второй половине XIX — начале XX в., как и ранее, только одними плетеными лукошками,, или севалками. Лукошко, сплетенное из соломы и лозовых прутьев, русские крестьяне Латгале называли лукном, а более архаичное из луба (лыка) — лубком. Круглую по форме «севалку» сеятель подвешивал на шею с помощью полотенца или ремешка„ продетого в имеющиеся у нее ушки. Других способов ношения: сеялок в Латгале не знали. Сев производился одной (обычно правой) рукой, вразброс. Употребление плетенных из разных материалов сеялок наблюдалось в прошлом также у многих народов Восточной Европы.
Линию падения зерна во избежание огрехов отмечали вешками, или лехами (153), — пучками кулевой соломы, иногда же просто чертой, проводившейся ногой. Выполнял эту работу человек (обычно кто-нибудь из детей), шедший за сеятелем. Маркирование засеваемой сеятелем полосы пучком соломы было характерно также для латышей и литовцев.
Из не менее архаичных, малопроизводительных состоял во второй половине XIX — начале XX в. у большинства русских земледельцев Латгале и комплект орудий, предназначавшихся для уборки урожая. В него входили серп и коса. Как видно из инвен- тарей, серпом в первой половине XIX в. жали рожь, а также яровые культуры. Косой косили гречиху, горох (154). Но во второй половине XIX в. яровые ячмень, овес чаще уже косили косой; серпом продолжали убирать лишь озимую рожь. Использование серпа для уборки хлеба еще в начале XX в. можно объяснить только отсталостью крестьянского сельского хозяйства. Но малопроизво- дительность в данном случае компенсировалась более тщательной уборкой хлеба, что достигалось при работе серпом.
Серп, употреблявшийся русскими крестьянами Латгале, относился к типу, который, по классификации этого вида орудий у русского народа, назван новгородским (155). Во-первых, это был серп не с гладким, а с зазубренным лезвием на рабочей стороне. По форме изгиба ножа он относился к серпам продолговатой, несколько сплющенной формы и с чуть скошенным свободным концом лезвия. В этом состоял второй отличительный признак данного типа серпа. Помимо этих общих признаков серп русских Латгале был сходен с новгородским и в деталях: по положению рукоятки относительно клинка, высоте дуги лезвия по отношению к ее основанию, положению вершины дуги лезвия. Об этом можно судить по размерам серпов. Основание дуги латгальского (русского) серпа составляло 25—30 см, высота дуги — 9—11 см, а ширина лезвия — 2,5—3 см (рис. 5).
Но ареал данного типа серпа в Русском государстве не ограничивался территорией, давшей ему название, а был значительно шире. Более того, он включал территории не только русского, но и ряда других народов. Серпом данной формы пользовались ла-

тыши Латвии, белорусы, крестьяне некоторых районов Эстонии,, восточной Финляндии и др. (156)
Для косьбы ярового хлеба, а иногда и озимого (при плохом,, редком урожае, засоренности поля) использовали длинную косу — литовку, предназначавшуюся для косьбы травы. Самой древней формы косы, употреблявшейся на территории Русского государства, так называемой косы-горбуши, у пришельцев Латгале во» второй половине XIX в. уже не было. Коса-литовка, которая пришла ей на смену примерно в XV—XVI вв. (157), состояла из железного лезвия, длинного косовища и приделываемой к нему рукоятки в виде дужки из ивового прута, концы которой стягивались веревкой (рис. 6,а). При уборке хлеба к косовищу привязывали, как это было повсюду принято, дугу из прута, чтобы скошенный хлеб ровно ложился (рис. 6,6). А если хлеб был низким, то на дугу натягивали еще и полотно. Данный тип косы был распространен: в северо-восточной Европе, косою этого типа широко пользовались в России, на Украине, в Белоруссии, восточных районах Прибалтики (158). Составители атласа Прибалтики называют его восточноевропейским типом (159).
Названия отдельных частей косы у русских Латгале были также общерусскими, а в какой-то части характерными и для белорусов (косовье, или косовище, палец, полотно, жало, или лезье, прут, нос, пятка, банка и др.).
В самом конце XIX — начале XX в. некоторые русские крестьяне, главным образом жившие в Корсовской волости Люцинского уезда, под влиянием окружавшего их латышского населения для косьбы хлеба начинали использовать маленькие косы-одноручки с грабельками. Но широкого распространения этот вид уборочного орудия у русских Латгале не получил, несмотря на его преимущества (160). Не использовали они и длинной косы с двумя рукоятками, которая бытовала у латышей Латвии.
Жнейки для уборки хлебов у богатых крестьян Латгале стали появляться перед первой мировой войной. Ссуду на приобретение их выдавали преимущественно тем, кто выделялся на хутора.
Сжатый хлеб подлежал воздушной просушке в поле и после нее — уборке. Для этого его связывали в снопы и составляли их по нескольку вместе.
В способах вязания снопов, формах укладки их, которые, как известно, зависят не только от природно-климатических условий края, вида убираемого хлеба, но и от традиций, выработанных в этом виде сельскохозяйственных работ этносом, у русских крестьян Латгале во второй половине XIX — начале XX в. прослеживались черты, свойственные населению главным образом Псковской и примыкающих к ней районов Тверской, Смоленской, а также Московской и некоторых северных губерний, где, как и в Латгале, практиковалась вертикальная форма укладки снопов для ржаного хлеба в стоянки, бабки по 10 штук в каждой
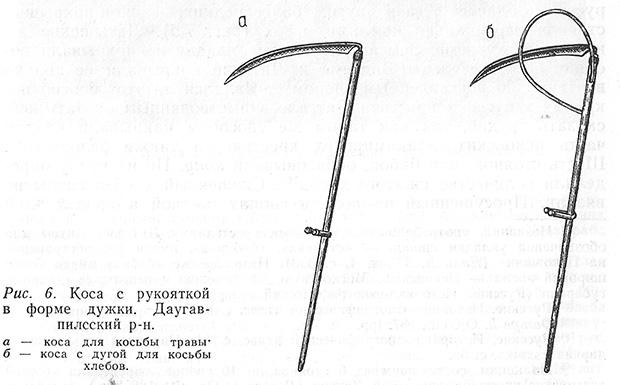

и для ярового — в бабурки, бабки, пятки по 5 снопов (161).
Вертикальная форма укладки снопов существовала, однако, и в Латвии, но здесь имелись свои отличия в количестве, способах составления и особенно покрытия снопов. Русские крестьяне Латгале в одних случаях сноп, идущий на покрышку, заламывали (рис. 7,а), как это было принято у крестьян некоторых северно- русских областей (162), а в других, более редких, — сноп-покрышку ставили вертикально комлями вверх (рис. 7,6). Латышские же крестьяне Курземе, Земгале, Аугшземе кладку не покрывали вообще, а земледельцы Видземе и Латгале покрывали ее только вертикально поставленным снопом (163). Являлся ли этот способ покрытия у русских крестьян Латгале заимствованным от латышей, сказать трудно, так как таким же способом накрывали кладку часть псковских, владимирских крестьян, а также белорусы (164). Шесть стоянок, или бабок, образовывали копу. По их числу определяли количество сжатого хлеба (165). Скошенный хлеб в снопы не вязали. Просушенный на поле в снопах ржаной и яровой хлеб складывали через 3—4 дня сушки (при сухой погоде) на специальные вертикального типа сооружения, которые составлялись из жердин с сучьями, называвшимися у русских Латгале островьями (166) или остревьямиш. Для ржаного хлеба русские Латгале использовали конусообразные по форме конструкции, так называемые одонья, или одонки (167), а для ярового — чаще продолговатые, вытянутые в одну линию сооружения, которые, как и сами жерди, они называли остревьями (рис. 8). Исключение составляли русские крестьяне Корсовской волости Люцинского уезда, называвшие эту конструкцию зародом (168). Для прочности оба вида конструкции, после того как на них разложат снопы хлеба, подпирали жердями, а для предохранения клади от сырости снизу подклады- вали хворост. Величина сооружений зависела от количества хлеба. В конце XIX в. в остревьях сушили скошенный яровой хлеб, горох, льняное семя и др. Устройство как конусообразных, так и

вытянутых в длинную линию зародов прослеживалось в прошлом у многих народов Северной и Восточной Европы, в том числе и Прибалтики (169).
Перед обмолотом сжатый и просушенный на поле хлеб русские Латгале, как все восточно-европейские народы, подвергали огневой сушке. При ручном обмолоте хлебов огневая сушка снопов в этом географическом ареале была необходимой, так как плохо просушенные снопы выколачивались не полностью.
Для огневой сушки хлеба русские крестьяне Латгале возводили специальные постройки (риги), называемые у них рьями (170). Однако они имелись не у каждого хозяина. Те, кто не в состоянии был их построить, пользовались соседскими, за плату. Бедные, малоземельные крестьяне сушили хлеб по частям в избе на печи.
Рей русских крестьян Латгале представлял собой небольшую срубную постройку, ставившуюся под одной крышей с помещением для обмолота зерна, которое называли токовней (Двинский, Режицкий уу.) или гумном (171) (русские православные крестьяне Люцинского у.).
Для создания необходимых температурных условий в риге топили печь, которую ставили обычно слева от входа (дверной проем прорубался со стороны гумна). Над печью настилали колосники, на которые ставились снопы хлеба. Ряд поставленных на два колосника снопов, укрепленных сверху третьим колосником, образовывал лаву, или лавину, а все лавы вместе (рей сооружали обычно на 6—7 лав) — посад (172). В противопожарных целях глинобитная печь, топившаяся «по-черному» (без трубы), помещалась в яме метровой глубины (рис. 9). Рьи с ямными печами ставили в основном староверы Двинского и Режицкого уездов и, видимо, по примеру своих соседей — латышей, у которых, хотя и не повсеместно, был распространен такой тип риг (173).
Русские православные крестьяне ставили наземные печи, т. е. вровень с землей или в небольшом (30—50 см) углублении, что было связано, видимо, с близко расположенными грунтовыми водами. Во избежание пожаров они вынуждены были поднимать
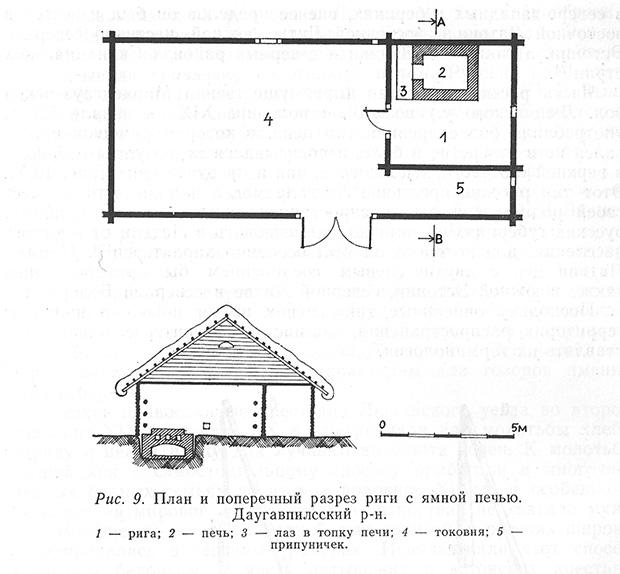
колосники, а для того чтобы поставить на них снопы, — вставать на скамейку или доску. Таким же образом сооружали печи в ригах псковские крестьяне.
Малоземелье, низкая производительность большинства крестьянских хозяйств, частые недороды явились причиной того, что русские крестьяне Латгале во второй половине XIX в. продолжали использовать ручные малопроизводительные орудия труда и в таких сельскохозяйственных работах, как молотьба, веяние зерна.
Основным традиционным орудием молотьбы в этот период у них служил цеп, который был известен не только русскому, но и многим другим народам Европы и Азии. По способу крепления била и рукоятки цепы подразделяются на несколько типов. Среди русских крестьян Латгале был распространен главным образом северо-западный (по классификации цепов у русских) тип цепа, в котором ремешок продевался в отверстие в биле и, образуя петлю, завязывался затем вокруг паза, вырезанного в верхней части рукоятки (рис. 10,а). Этот тип цепа в России бытовал лишь
в северо-западных губерниях, вне ее пределов он был известен в восточной Латвии и восточной Литве, южной, частично северной Эстонии, а также Финляндии и северных районах Скандинавских стран (174).
Часть русских крестьян (преимущественно Мариенгаузенской вол. Люцинского у.) во второй половине XIX — начале XX в. употребляли более древний тип цепа, в котором ремешок продевался не в отверстие в биле, а повязывался по пазу, выточенному в верхней его части, т. е. так же, как и на ручке цепа (рис. 10,6). Этот тип русские крестьяне Латгале могли или вынести из мест своей родины (он был распространен также в северо-западных русских губерниях (175)), или же заимствовать в Латвии от местного населения, для которого он был особенно характерен (176). Помимо Латвии цеп с двухпетелевым соединением был распространен также в южной Эстонии, северной Литве и северной Белоруссии.
Поскольку описанные типы цепов имели довольно широкую территорию распространения, для нас особый интерес может представлять их терминология.
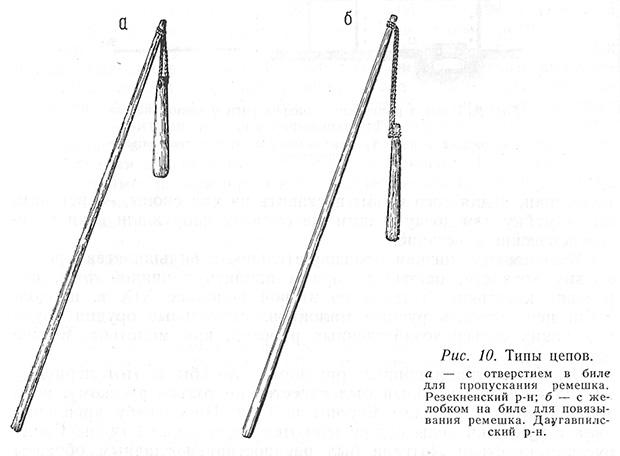
В названиях цепа у русских Латгале не было однообразия. Так, в Двинском уезде (Малиновская, Вышковская вол.), Режиц- ком (Ковнатская, Розентовская, Узульмуйжская вол.) староверы цеп называли привязью, молотилкой, цепом. Русские православные крестьяне для цепа употребляли название ручник (177). В Выш- ковской и Малиновской волостях Двинского уезда, Ковнатской, Солуионской и Узульмуйжской волостях Режицкого уезда рукоятка цепа имела название цавины, било — цапца, цапка (178), в Розентовской волости Режицкого уезда — соответственно привязи и молотилки, в ряде деревень Ковнатской волости — палки и цапца, в Вайводовской волости — цавины и бичовки. В Люцин- ском уезде русские православные крестьяне ручку цепа называли цевьем (179), а било — молотилкой. Ремешок повсюду называли пу- той или опутиной.
Из сказанного следует, что употреблявшиеся русскими крестьянами Латгале названия цепа и его деталей своим происхождением были связаны с северными и западно-русскими губерниями и в первую очередь с Новгородской, Тверской и Псковской, ибо перечисленные названия были характерны для говоров именно, этих губерний.
Русские православные крестьяне Люцинского уезда во второй половине XIX — начале XX в. употребляли для молотьбы хлеба наряду с цепом палку для лучшего вымолота зерен. К молотьбе палкой как к самостоятельному способу прибегали в многочисленных бедных семьях во второй половине XIX в. и особенно в годы первой мировой войны, когда в хозяйствах не хватало мужчин. Вообще же молотьба палкой, или кичигой, у русских широко практиковалась в северных районах. Использовали этот способ молотьбы белорусы, а часть латышских и эстонских крестьян прибегали к нему после молотьбы хлестанием (180).
Наряду с описанными приемами русские крестьяне Латгале во второй половине XIX в. сохраняли еще и более древний способ обмолота хлеба, использовавшийся в прошлом также многими
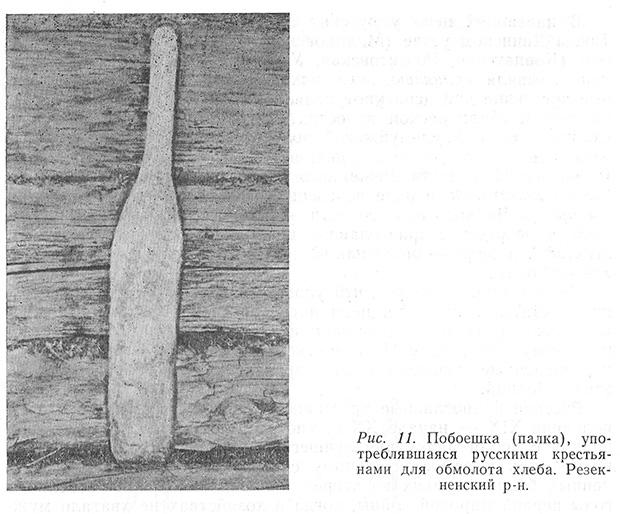
европейскими народами, в том числе и латышским. Но русские Латгале к нему прибегали в этот период лишь при молотьбе ржи сыромолотом, когда нужно было получить хорошее посевное зерно и солому для крыши. Этот способ состоял в выколачивании зерна хлестанием, или, как говорили староверы, стебанием (181), снопов о козел или стенку. В некоторых случаях за хлестанием следовала обивка снопа вокруг связки короткой палкой с небольшой кривизной, которую называли побоешкой (рис. 11). Способ обмолота ржи хлестанием как с последующим обмолотом палкой (кичигой) или цепом, так и без него был распространен в России в первую очередь в западных и центральных областях, у белорусов, украинцев, а вне ее пределов — у многих народов Европы, в том числе у латышей, эстонцев и др. (182)
Скошенный яровой хлеб русские крестьяне Латгале цепами не молотили. По разостланному кругом хлебу они прогоняли пару или тройку лошадей, запряженных цугом, которые вытаптывали зерно из колосьев. Использование лошадей для топтания яровых у русских крестьян Латгале стало распространяться только во второй половине XIX в. и, видимо, под влиянием латышских крестьян, хотя этот способ молотьбы русским южных губерний России, как и некоторым народам Центральной Европы, Латвии, Эстонии и т. д., был известен с давних пор (183).
В конце XIX в. русские крестьяне Латгале для молотьбы стали употреблять более производительные орудия с применением тягловой силы — зубчатые или рубчатые катки (колоды), которые местные крестьяне Латвии применяли уже с середины XIX в. (184) Машины для молотьбы,, или, как их называли староверы, моло- тарки (сначала ручные), начали появляться в русской деревне Латгале перед первой мировой войной, но, как и все усовершенствования, только в зажиточных хозяйствах. По форме это был деревянный барабан с железными зубьями, рассчитанный на силу четырех человек. Позднее ручные машины для молотьбы сменились машинами с конным приводом, а затем с механическим двигателем. С появлением машин отпала необходимость в сушке снопов в ригах.
Во второй половине XIX — начале XX в. русские Латгале использовали несколько способов провеивания зерна. Однако большинством из них применялся еще самый простой способ веяния, характерный для русских северо-западных и западных губерний, граничащих с Белоруссией, а также крестьян восточной Латвии, севера, юга и востока Эстонии, большей части Литвы, северо-за- ладной Украины, Польши, Швеции и Финляндии. Веяние здесь производилось в гумне, сидя, с помощью совка с короткой ручкой, которым зерно бросалось полукруговыми движениями справа налево (185). Совок многие русские крестьяне Латгале называли шуфлей (186), лопаткой или пелькой(187). При веянии совком или небольшой лопаткой с короткой ручкой мякина, или пела (188), падала рядом с сидящим работником, а зерно отлетало в сторону. Провеивание завершалось удалением сора с зерна. Такой способ провеивания, по мнению большинства информаторов, обеспечивал сбор достаточно чистого зерна. Дополнительное просеивание через решето, или, как говорили они, скруживание на решете, подсеивание, практиковалось лишь перед помолом зерна на мельнице. Так же веяли в прошлом псковские и местные крестьяне ряда районов Латгале, иллукстские староверы (189). Некоторые русские крестьяне Латгале (Малиновская вол. Двинского у.) наряду с этим применяли и другой способ веяния, характерный для большинства русских губерний, — стоя на ветру, но при этом они использовали не длинную лопату, а лукно, которым брали зерно» из кучи и бросали его сверху вниз на расстеленное на земле полотно. Мякину ветром относило в сторону, а зерно, как более тяжелое, падало у ног стоящего работника. Однако такой способ веяния русские Латгале считали малопроизводительным и прибегали к нему редко.
Веяние ярового хлеба, убранного косой и обмолоченного лошадьми, во второй половине XIX — начале XX в. русскими Латгале производилось иначе. Прежде чем веять совком, они с помощью редкого решета, грохота продолговатой формы отделяли мелкую солому, сор. Использование решета для первичной очистки зерна было, по всей вероятности, усвоено русскими крестьянами в Латвии, когда стали обмолачивать яровой хлеб вытаптыванием лошадьми, в результате чего образовывалось много мелкой соломы, мякины, которые нужно было отделить, прежде чем начать веять совком (190).
При веянии зерно сортировали. То зерно, которое падало' близко от места веяния, так называемая гирса (191), было легкое,, некачественное и шло на корм скоту, среднее — для питания семьи, а тяжелое и самое дальнее, которое иногда называли бредком (192), употреблялось на семена.
В конце XIX в. зажиточные крестьяне Латгале от старых, традиционных способов веяния вручную переходят к веянию машинами, называемыми арфами. Первые фабричные веялки появились у них незадолго до первой мировой войны. Но в русской деревне их было еще мало.
Отдельный комплект составляли орудия труда, предназначавшиеся для сенокоса. Во второй половине XIX в. в него входили косы, ручные грабли с развилкой граблевища у рабочей части, характерные для стран Восточной Европы, и набор различных вил. Грабли, вилы крестьяне обычно делали сами. Сухое сено метали в стога, а к зиме перевозили в сараи или пуни (193).
Изложенный материал по сельскохозяйственной технике свидетельствует о том, что во второй половине XIX-—начале XX в. русские крестьяне Латгале, как и местные, использовали преимущественно комплекс традиционных земледельческих орудий, характерных в основном для феодального периода.
Утверждение в Латгале капиталистического способа производства, содействовавшего преобразованию сельского хозяйства крестьян, не могло привести к полной замене старой земледельческой техники, хотя некоторые нововведения в этой области и происходили. Причиной тому являлись социально-экономические условия жизни крестьян. Новейшей техникой оснащались главным образом хозяйства состоятельных крестьян, которые перешли на новую (многопольную) систему хозяйства и имели прочные связи с рынком. Преобразование хозяйства, введение усовершенствованных орудий труда у основной массы крестьян сдерживались малоземельем, чересполосицей, недостаточностью или отсутствием пастбищных угодий. Поступавшие же от неземледельческих промыслов денежные средства шли у них в первую очередь на погашение выкупных платежей и налогов, покупку недостававшего на пропитание семьи хлеба, иногда семян, корма скоту. Остававшиеся деньги крестьяне могли употребить лишь на обновление старого традиционного сельскохозяйственного инвентаря, а не на приобретение более производительных орудий.
Таким образом, проникновение в сельскохозяйственную технику русских крестьян Латгале инноваций из города в конце XIX — начале XX в. происходило замедленными темпами и не захватывало все слои крестьян.
Мало нового переняли русские земледельцы и от своих соседей — латышей Видземе, Курземе (косы-одноручки, грохоты для предварительного провеивания зерна яровых хлебов, устройство ямных риг и др.), хотя некоторые традиционные сельскохозяйственные орудия латышей были более производительными, чем их собственные. Это можно объяснить как низким уровнем земледелия русских крестьян, так и особенностями их быта.
Рассматривая сельскохозяйственную технику русских крестьян Латгале в этнографическом аспекте, можно сказать, что она по своим типам, конструктивным особенностям деталей воспроизводила сельскохозяйственный инвентарь населения западных, отчасти северных областей Русского государства. Это подтверждается и сельскохозяйственной лексикой русских Латгале, которая была особенно близка к лексике псковских земледельцев. Примечательно также и то, что некоторые традиционные сельскохозяйственные орудия крестьян западно-русского региона, а следовательно и земледельцев Латгале, были аналогичны сельскохозяйственным орудиям народов лесной полосы Восточной и Северной Европы.
Возникновение сходных типов сельскохозяйственных орудий у разных народов на столь широкой территории можно объяснить одинаковым уровнем развития производительных сил, сходством природно-климатических условий, а также культурными контактами, в результате которых заимствовались не только реалии, но и их названия. Отсюда в западно-русских говорах, в том числе и в говорах русских Латгале, наличие балтизмов, слов финского происхождения. Сходство же части русской и белорусской лексики, относящейся к сельскохозяйственным орудиям, может быть объяснено не столько заимствованием, сколько общностью происхождения этих народов.
Наряду с земледелием русские крестьяне Латгале занимались и животноводством. Но эта отрасль хозяйства вплоть до начала XX в. не получила у них, впрочем как и у местного населения,, самостоятельного развития. Животноводство было призвано прежде всего удовлетворять потребности крестьян в тягловой силе,, используемой в земледелии, органическом удобрении и продуктах питания. Но размеры и состояние его в Латгале были такими, что ни одна из этих потребностей крестьян не могла быть удовлетворена полностью.
Являясь важным фактором развития земледелия, животноводство зависело от кормовой базы, т. е. от наличия сенокосных лугов и пастбищ. Для того чтобы содержать необходимое для рационального ведения земледелия количество скота, в крестьянском хозяйстве на каждую десятину пахоты должна была приходиться примерно 1 дес. луга, дающая не менее 150 пудов сена, а в Витебской губернии на 1 дес. пашни приходилось в начале XX в. менее Уз луговой земли (194). Луга, или пожни (195), были обшими, выделенными на целую деревню. Они располагались на надельных землях. Но из-за недостатка их зажиточные крестьяне имели сенокосы на собственной купленной или арендованной земле. Выгоны были также общими, но их было мало, поэтому крестьяне пасли скот в помещичьих лесах, кустарниках, пользуясь ими на основе сервитутного права, и в полях после уборки урожая.
Количество скота в каждом хозяйстве определялось его конкретными потребностями и возможностями. В хозяйстве нужно было иметь такое количество скота, какое дало бы возможность крестьянину выполнить пахотные работы в имении, своем хозяйстве и в достаточной мере унавозить свою землю. Составители инвентарей считали, что для удовлетворения этих потребностей на уволоку земли в 20 дес. должно приходиться не менее 3—4 лошадей, столько же коров и до 5 овец (196), или 1 лошадь и 1 корова на 5—6,5 дес. земли. Если полагаться на данные инвентарей, то именно такое количество скота и даже чуть больше приходилось в 40—50-е гг. XIX в. в среднем на хозяйство крестьянина. В расчете на одну душу мужского пола, по данным инвентарей двух имений, — Иозефииово Динабургского уезда и Узульмуйжа Режицкого уезда, где в 40-е гг. насчитывалось примерно 260 русских дворов, приходилось в среднем 1,04 лошади (197) и 1,44 коровы в имении Иозефииово и соответственно 1,08 и 1,50 в имении Узульмуйжа (198). Но это были средние показатели. В действительности же в русских деревнях имелась, с одной стороны, прослойка зажиточных крестьян, у которых, как видно из инвентарей, в расчете на одного работника мужского пола приходилось значительно большее количество различного скота — по 3—4 лошади, 6—8 коров и т. д., а с другой — крестьяне, у которых количество скота, было ниже средней нормы, а иногда и совсем его не было. Поэтому неслучайно исследователями первой половины XIX в. отмечалось, что в Витебской губернии даже среди государственных, крестьян редко встречался двор, где бы на одного работника было по рабочей лошади. В большинстве случаев семья с 2—3 работниками имела одну рабочую лошадь (199).
О количестве скота, содержавшегося в хозяйствах крестьян во второй половине XIX в., некоторое представление дают анкеты: РГО 70-х гг. Они характеризуют наличие скота в наиболее типичных хозяйствах трех социальных групп крестьян: зажиточных, середняков и бедняков. Анализ этих сведений показывает, что зажиточные крестьяне семи волостей Режицкого уезда, владевшие от 16 до 35 дес. земли, держали, как правило, 4—5 лошадей, 6—8 дойных коров, 6—10 овец и до 6 свиней. Середняки на 12—25 дес. земли держали 2 лошадей, 3—6 коров, 6—8 овец и 2—3, иногда .до 6, свиней. У крестьян-бедняков, размеры земельных участков жоторых были значительно меньше, имелись только 1 лошадь, 1—2 коровы (реже больше), 2 овцы и примерно столько же свиней (200).
Эти данные говорят, во-первых, о неравномерной обеспеченности скотом различных социальных групп крестьян и, во-вторых, о недостаточном количестве скота, и прежде всего лошадей, во второй половине XIX в. у бедняцкой и середняцкой масс крестьянства.
В начале XX в. исследуемые уезды характеризовались самым большим в губернии числом хозяйств, в которых не было скота ..вообще. В Люцинском уезде их было 6,9%, в Двинском — 11,1 .и в Режицком — 14,5% (201) - По подсчетам исследователей, которые 10 голов мелкого скота приравнивали к одной голове крупного, получалось, что в начале XX в. в Люцинском уезде на одно крестьянское хозяйство в среднем приходилось по 3,7, а в Двинском и Режицком уездах — по 3,1 головы скота (202). Показатели в .последних двух уездах были самыми высокими в губернии.
Степень обеспеченности латгальских хозяйств рабочими лошадьми в начале XX в. была также самой низкой в губернии. В этот период во всех уездах Латгале на одно крестьянское хозяйство в среднем приходилось по 1,3 рабочей лошади (203). Исследователи начала XX в. констатировали, что по губернии в целом лишь немногим более 'Д хозяев имели возможность самостоятельно обрабатывать землю и производить все необходимые работы с помощью своего скота (204). По количеству хозяйств, не имевших рабочего скота, латгальские уезды в Витебской губернии стояли на первом месте.
Русские крестьяне Латгале вплоть до начала XX в. держали скот местной, мелкой породы (205), истощенной работой, недостаточностью и скудостью кормов. Из-за плохого ухода, нехватки кормов местная порода скота западных губерний утратила свою бы- .лую рослость и прочие положительные качества и по сравнению с сильной породой скота прибалтийских губерний, как писали исследователи первой половины XIX в., «она составляла породу пигмеев» (206).
Крестьяне Латгале содержали скот и малороссийской (украинской) породы, который приобретали для быстрого восстановления количества скота, значительно сокращавшегося во время падежей.
Это была сильная порода, но в условиях Западного края из-за недостатка тучных пастбищ, плохого зимнего содержания она также перерождалась и теряла свои качества (207).
Некоторые зажиточные крестьяне Двинского уезда в конце
XIX — начале XX в. пытались завести породистый скот, но попытки эти оканчивались неудачей: «за неудобством пастбищ, как: сообщали они, и невозможности подкармливать скот на дому,, он худел и гиб». Староверы Режицкого уезда в анкете Совета всероссийских съездов старообрядцев вообще отмечали, что «ввиду малоземелья улучшение скотоводства является невозможным» (208).
На неудовлетворительное состояние животноводства в Витебской губернии в XIX в. постоянно обращалось внимание в литературе того времени (209). Причины этого авторы видели в недостаточности пастбищ, нехватке кормов и плохих условиях содержания скота зимой. Хлева в подавляющем большинстве хозяйств, как правило, строили холодными, темными, сырыми. Летом они, оказывались чрезмерно душными, что способствовало развитию различных болезней у животных. Сказывались на скоте и недостаточный уход за ним, отсутствие ветеринарной помощи, а также, раннее допущение к случке.
Однако большинство из перечисленных обстоятельств, влиявших на состояние животноводства в Латгале, являлось порождением одной главной причины —• малоземелья крестьян и связанной с ним трехпольной системы земледелия, что не позволяло им- перейти к многополью с травосеянием, возделыванием клевера и: других культур для создания необходимой кормовой базы.
Крестьяне Латгале, как и всего Северо-Западного края, держали в основном красно-рыжих по масти коров местной породы.. Этот скот был привычен к климатическим, почвенным, кормовым условиям края и при хорошем уходе мог давать сравнительно хорошие удои. Но в бедных крестьянских хозяйствах под воздействием указанных выше обстоятельств эти коровы имели низкие мясные и молочные качества. Убитая корова, по свидетельству авторов начала XX в., давала 6—8 пудов мяса, а разовая удойность коровы при трехкратном летнем доении составляла ведра и меньше. Всего же за 9 месяцев дойного периода корова давала от 35 до 60 ведер молока (210), в то время как корова той же породы в помещичьих имениях давала в среднем 125 ведер (211). По словам информаторов, за один раз выдаивали в среднем 3 л молока, летом несколько больше.
Порода лошадей, которых держали крестьяне Латгале, была мелка, невзрачна и малосильна (212). Старообрядцы Двинского уезда писали: «В нашей местности у крестьян жалкие лошаденки самого низкого происхождения, которые по дешевке покупают на рынках» (213). Своих доморощенных лошадей почти не было. Однако авторы конца XIX в. отмечали, что у староверов Витебской губернии лошади хорошие, сытые в отличие от заморенных лошадей мужиков, т. е. бывших помещичьих и государственных крестьян (214). Но они имели в виду лишь небольшую часть староверов, принадлежавшую к группе зажиточных арендаторов.
Большинством крестьян лошади покупались на рынках по самым дешевым ценам. И только состоятельные крестьяне, а также крестьяне, которые занимались извозом, старались приобретать более сильных лошадей. В 50—60-е гг. XIX в. крестьяне Латгале нередко покупали лошадей по «сходным» ценам у торговцев табаком, приезжавших на лошадях с Украины. Для привоза табака •они гнали целые табуны лошадей, которых по продаже товара сбывали латгальским крестьянам. С проведением железных дорог возможность приобретения лошадей таким путем исчезла (215).
В конце XIX в. зажиточные русские крестьяне Латгале начали заводить рысаков (216). Их держали для парадных выездов, кирмашей (217). Кроме того, у староверов «вошло в моду» устраивать ристалища. Рысистые бега обычно проводились зимой в Режице (на •озере), Люцине, Пыталове, куда съезжалось большое количество как участников ристалищ, так и любителей этих зрелищ. Ристалища настолько прочно вошли в быт русских крестьян и особенно староверов, что их организовывали еще в 50-е гг. XX в. Подражая зажиточным хозяевам, рысаков стремились приобретать и менее состоятельные крестьяне. Это стремление было так сильно, что •часто покупка лошадей производилась в ущерб всему остальному. Информаторы про таких крестьян говорили с насмешкой: «Самим жрать нечего, а рысаков заводят».
Необычайную страсть староверов к лошадям подметил в свое время Ю. Тынянов. Вспоминая Режицу 900-х гг., он писал: «Ста- -роверы были великие лошадники. Как заводились деньги — выезжал человек на бешеной лошади, чинно держа в вытянутых руках короткие поводья... Их [лошадей] наряжали, как женщин, — шелковые синие легкие сетки, мягкие розовые шенкеля. Каждый день рассказывали: «Синицу [фамилия староверческая] жеребец понес. Воробья [также фамилия] на сто верст разнес» (218).
Из мелкого скота русские крестьяне Латгале держали овец, свиней, из птицы — кур, меньше — гусей. Содержание овец и свиней служило источником мяса, шерсти для домашних нужд и в редких случаях для продажи. От домашней птицы получали мясо, яйца, перо, что также использовалось в основном для удовлетворения собственных потребностей.
Овец держали простой местной грубошерстной породы. Тонкорунных овец у крестьян не было, так как их содержание было трудоемким и требовало больших денежных затрат.
Свиноводство в западных губерниях России, и особенно в Витебской и Смоленской, было развито слабо (219). Свиней в хозяйствах держали меньше, чем овец, и также простой местной породы.
Уходу за скотом особого значения крестьяне не придавали. Кормов при недостаточности лугов не хватало. Как уже говорилось, чтобы прокормить необходимое количество скота, крестьянское хозяйство должно было иметь на 1 дес. пашни 1 дес. луга, с которого можно было бы собрать не менее 150 пудов сена. Но, как можно судить по некоторым инвентарям, латгальские крестьяне с 1 дес. обычного луга собирали в среднем лишь 70, реже — 100—120 пудов мурожного, или лугового, сена (220). Сбор болотного сена вообще не превышал 70 пудов с десятины.
Из-за нехватки сеном кормили только лошадей, овец и телят. Но не в каждом хозяйстве лошадь, находившаяся на домашнем корму 6—б'/г месяца получала необходимую для нее норму сена, так же как не все крестьяне могли кормить лошадей чистым сеном. Часто им давали сено с примесью мякины, мешанки (мука из выращенных вместе гороха и овса) или ячменной соломы и др.
Овес лошадь получала во время весенних полевых работ и в дни выездов, но чаще ей давали резку, или сечку (221), — мелко нарезанную солому с небольшой примесью овса. В начале XX в. содержание лошадей улучшилось, но в основном в зажиточных хозяйствах.
Коровам чистое сено почти не доставалось совсем. Их кормили так называемыми миндарыками (222) — мелкой, топтанной лошадьми яровой (овсяной) соломой, вытряской (223) из ржаной соломы, а весной — только ржаной соломой. Но и этого корма корова в большинстве крестьянских хозяйств получала ниже требуемой нормы.
Свиней в бедных хозяйствах русских крестьян часто приходилось кормить помимо картофельных отходов и хряпы (рубленые листья свеклы) так называемыми мешками — конским навозом с добавлением в него картофельной шелухи.
Овец старались кормить лучше, так как от них «получали мясо, шубы, валенцы и деницы (рукавицы)». Их кормили сеном три раза в день и один раз в сутки поили.
Особенно трудно было прокормить скот в неурожайные годы, а они, как было замечено, случались довольно часто. Недостаток своих кормов восполнялся покупкой их, но не каждый хозяин: имел на это средства. Бывали случаи, когда крестьянин вынужден был снимать солому с крыши, чтобы накормить скот. Неимущие крестьяне в такие годы нередко продавали последний, необходимый в хозяйстве скот.
В конце XIX — начале XX в. в неурожайные годы прибегали и к такой форме содержания скота, как отдача его на прокорм (зимой) к зажиточным крестьянам (224). Коров отдавали либо за деньги, молоко в период содержания, либо за приплод и молок» и т. д. В голодные зимы скот нередко погибал от нехватки корма, а мелкий скот (овцы) еще и от замерзания, так как был лишен соломенной подстилки (225).
Катастрофой для большинства крестьянских хозяйств оборачивались, как и неурожайные годы, годы эпизоотий, во время которых крестьяне, лишенные ветеринарной помощи, медикаментов, почти полностью лишались своего скота. Наиболее распространенными заразными заболеваниями рогатого скота в западных губерниях были чума, воспаление селезенки, поражение легких. Некоторые из этих болезней, истреблявших большое количество скота, как указывалось в инвентарях, заносили проходившие по Латгале гурты волов из Малороссии (226). Большой падеж скота почти регулярно наблюдался в годы дождливой и холодной летней погоды (227). Небывалый по масштабам падеж скота в крестьянских хозяйствах произошел в 1844—1845 гг., и не только в Витебской губернии, и в том числе в Латгале, но и в Виленской, Ковенской, Псковской, Смоленской и прибалтийских губерниях (228). В эти годы многие крестьяне лишились половины имевшегося у .них рогатого скота и почти всех овец. Летние месяцы, приходившиеся на этот период, были очень дождливыми, холодными, что привело из-за заноса травы песком и илом к ее гниению и появлению так называемой травяной вши и печеночной глисты, оказавших пагубное воздействие на скот (229). Большой падеж скота от .заразных болезней в Витебской губернии произошел в 1859 г., когда пало до 10 тыс. голов рогатого скота (230).
Жара, засуха способствовали распространению другой, не менее опасной по своим последствиям болезни — воспалению селезенки.
После полуголодной зимовки скот выходил весной на пастбище отощавшим или, как писали исследователи, «совершенным скелетом, едва в состоянии поддержать жизнь теленка» (231).
На подножном корму скот у крестьян Латгале находился с ранней весны и до поздней осени. Для пастьбы скота за неимением хороших, настоящих пастбищ отводили болотистые или поросшие кустарником места, но чаще скот по весне выгоняли на яровое, а затем паровое поле, где он получал довольно скудный корм. И только после уборки сена на лугах и хлеба с полей скот начинал получать более полноценный корм. На паровом поле скот находился примерно до конца июня. С 29 июня (петрова дня), когда на паровое поле начинали вывозить навоз, скот перегоняли на луг, где трава уже к этому времени была скошена, а затем на сжатое ржаное поле.
Выгон скота на поле по существовавшей традиции происходил 23 апреля, т. е. в егорьев день, что было связано с почитанием русским народом, как и многими другими, св. Георгия, покровителя скота. Правда, в связи с недостачей кормов сплошь и рядом, особенно в раннюю весну, скот выгоняли задолго до «Его- рья». Загонять в хлева на зимнее содержание было принято в покров день, 1 октября. Но, если стояла теплая погода, это происходило позднее.
Во второй половине XIX — начале XX в. у русских и местных крестьян Латгале существовал общий выпас скота с наймом всей деревней пастуха и подпаска для пастьбы стада.
Бессилие крестьян перед лицом природы, зависимость их благополучия от сил стихии породили и в этой, жизненно важной области сельского хозяйства веру в сверхъестественную силу природных явлений, что нашло отражение в создании народами целых комплексов животноводческой обрядности, направленной на обеспечение плодовитости и продуктивности скота, предохранение его от падежей и прочих несчастных случаев. Впоследствии на эти обряды оказала влияние церковь, что привело к контаминации древних, связанных с язычеством верований и обычаев с христианскими. Но к концу XIX в. с развитием капитализма значение этих обрядов в животноводстве, как и в земледелии, падает и из целого комплекса их сохраняются лишь отдельные элементы. Такую же судьбу претерпела и животноводческая обрядность русских старожилов Латгале.
Большое место в животноводческом комплексе обрядности у русских Латгале, как и у многих восточно-европейских народов, примерно до 80—90-х гг. XIX в. занимали обряды, приуроченные к егорьеву дню, когда совершался переход от стойлового содержания скота к пастбищному периоду, вызывавшему у крестьян особую обеспокоенность за судьбу скота. Но из обрядов этого дня к концу века сохранились уже немногие. Однако один элемент обряда, в котором прослеживались дохристианские верования крестьян, соблюдался почти повсеместно. Это был выгон скота вербой. Смысл обычая заключался в том, чтобы ударить веткой вербы каждое животное в отдельности, ибо верба якобы обладала магическим свойством: давала силу, здоровье животному, предохраняла его от болезней. Правда, вербу для большей «верности» в конце XIX в. уже освящали, или, как говорили староверы, кадили в моленной, в последнее перед пасхой вербное воскресенье. Этого вида контагиозной магии (магии соприкосновения) придерживались не только восточные и южные славяне, но и многие неславянские народы Европы. Не составляли исклю- чения в этом отношении и латышские крестьяне. Но хлестание скота вербой они приурочивали не к юрьеву дню, а к вербному воскресенью, т. е. ко дню освящения вербы (232), когда она, видимо, обладала, по их мнению, наибольшей силой.
После выгона скота русские крестьяне Латгале вербу втыкали в стену хлева, так как эта ветка якобы помогала скоту возвращаться с поля домой или, как говорили отдельные крестьяне, чтобы корова не гизандовала (233). В этом данный обычай был схож с белорусским (234). По убеждению других информаторов (бывш.. Прельская вол. Двинского у.), верба предохраняла хлев от пожара в грозу. Украинцы с этой целью вербу хранили в хате (235). Местные крестьяне Латгале таким же актом предохраняли жилище от пожара, вызывавшегося молнией (236).
Вторым общим и сохранившимся до XX в. дохристианским элементом обрядности егорьева дня у русских Латгале было одаривание пастуха, причем в число даров должны были обязательно входить яйца. Этот обычай также был распространен у многих народов. В некоторых местах (дер. Козлишки Ужвалд- ской вол. Двинского у.) яйцами одаривали пастуха и на пасху. Яйцу в весенних животноводческих обрядах приписывали функцию обеспечения плодовитости скота. Поэтому с ним у разных народов было связано исполнение в егорьев день многих обрядов продуцирующего характера.
Древним элементом скотоводческого комплекса егорьевской обрядности, наблюдавшимся также у многих народов Восточной Европы, был обход пастухом стада. Но у русских Латгале во второй половине XIX в. он исполнялся уже не повсюду. Там, где его соблюдали, в частности в Ликсненской волости Двинского уезда, пастух с кнутом или вербой в руках обходил трижды стадо в поле, а перед этим каждый хозяин трижды обходил свой скот во дворе и трижды перекрещивал его. Иногда хозяин обходил скот с вербой, иконой и ладаном. Последние два атрибута уже явно привнесены церковью. Латышские крестьяне Латгале обходили скот трижды с камнем в руках, который затем бросали в стадо (237). Обход скота, означавший замыкание его в круг, по мнению исследователей, остаток очень древнего магического действия, посредством которого скот ограждали от разных напастей и заставляли держаться своего двора (238).
Как одно из средств оберега скота можно рассматривать обычай «венчания» коров, который совершался у русских Латгале в иванов день. Когда пастух пригонял с поля стадо, каждая хозяйка встречавшая свою корову, надевала ей на рога венок, сплетенный из ржи и клевера. Во дворе венок с коровы снимали и вешали на стену в избе, где он оставался до егорьева дня. Выгоняя в этот день в первый раз после зимы коров в поле, венок скармливали им. Такой способ оберега скота использовали украинцы Закарпатья, частично северные великорусы, но приурочивали его к егорьеву дню (239). У некоторых русских крестьян Латгале «венчали» коров также в троицын день. Надевали венки в этот, а не в иванов день и на Псковщине, в Великолуцком уезде, а также белорусы Себежского уезда Витебской губернии (240). Аналогичный обычай существовал и у латышей, но у них в отличие от русских Латгале надевал венок в иванов день пастух. Другой у них была мотивировка обычая: чтобы коровы давали больше молока и чтобы оно- было жирным (241). Латышский обычай венчания коров совпадал с литовским, с той только разницей, что последние делали это, как великолукские крестьяне и витебские белорусы, в троицын день (242)..
Чисто церковным элементом обрядности, связанной с первым, выгоном скота в поле, было устройство в некоторых местах Латгале (Узульмуйжская вол. Режицкого у.) общедеревенского молебна, в котором обязательное участие принимал пастух. Но в. конце века в силу этого акта верили не все крестьяне, особенно' в районах с развитым отходничеством, и поэтому молебен совершали не повсеместно. На рубеже веков в большинстве случаев староверы ограничивались при выгоне скота чтением молитвы у себя дома, прося св. Георгия сохранить скотину здоровой и невредимой.
Под влиянием христианской церкви возник и соблюдавшийся местами в Латгале в конце XIX в. обычай выгонять скот с молитвой и иконой. Выгон скота с молитвой и обход его с иконой практиковались во многих губерниях России, а также у белорусов (243).
Некоторыми крестьянами Латгале (Солуионская вол. Режицкого у., частично Вышковская, Ликсненская вол. Двинского у.) егорьев день осознавался и как конский праздник, так как св. Георгий покровительствовал, по их мнению, прежде всего лошадям. В этот день они не запрягали их и обычно к нему приурочивали первый (после зимы) выгон лошадей в ночное, или, по-местному,. в ночлег. В ночлег отправлялись молодые парни, которые в лесу возле пасущихся лошадей устраивали общее увеселение с угощением и непременно с яичницей, которую «пекли» на кострах из взятых с собою яиц. Но у большей части русских Латгале в первый ночлег отправлялись не в егорьев, а в николин день и аналогичное увеселение с угощением из яичницы, носившее название миколыцины, устраивалось в честь св. Николая (Миколы), которого старались таким образом задобрить для оказания им помощи в охране лошадей (244). В этом, в целом христианском, обычае прослеживаются следы животноводческой магии (употребление яиц), когда с помощью яйца пытались содействовать плодовитости лошадей.
Выезд в ночное в николин день был характерен, по утверждению исследователей XIX — начала XX в., для всех русских (245). Приурочивание же первого выезда в ночлег сравнительно небольшой частью русских старожилов Латгале к егорьеву дню произошло, вероятно, под влиянием латышей, у которых издавна было принято отправляться в ночлег в этот день и устраивать в лесу увеселение, известное как праздник пиегульниеков (246) (конюхов).
Опасение за скот, от которого полностью зависело благополучие крестьянской семьи, отсутствие практической помощи по уходу за ним, базирующейся на сколько-нибудь научных знаниях, тяжелое экономическое положение создавали условия для живучести у русских крестьян Латгале веры в магические действия всякой нечистой силы, портившей скот. Порчей скота, по их убеждению, занимались женщины-колдуньи и главным образом в ночь на иванов день. Делали они это посредством хлестания его веткой зелени, в результате чего коровы заболевали, теряли молоко или снимок (247) — верх молока. Вера крестьян в сверхъестественную силу трав, собранных колдуньями в Иванову ночь, оказалась живучей не только у русского народа, но и у всех славян (248). Верили в злые действия колдуний в Иванову ночь и латышские крестьяне, но в формах нанесения колдуньями вреда скоту, порчи у них наблюдались некоторые отличия (249). «Спасали» от беды крестьян шептуны, которые наговорами возвращали коровам здоровье.
Живучей оказалась вера русских крестьян Латгале в «дурной глаз», в результате чего они опасались доить коров в присутствии посторонних людей, которые могли «сглазить корову», напустить на нее чмур (250).
Приведенные элементы животноводческой обрядности русских старожилов — это сохранившаяся до начала XX в. Небольшая ее часть, которая тем не менее неплохо передает верования крестьян более раннего периода. К сожалению, среди сохранившихся обычаев и обрядов не прослеживается узколокальных элементов, которые бы позволили судить о генезисе животноводческого комплекса в целом. Более того, все перечисленные обычаи у русских крестьян Латгале носили межэтнический характер, обусловленный общностью философской основы животноводческой обрядности многих европейских народов.
Итак, мы рассмотрели в общих чертах состояние сельского хозяйства русских крестьян Латгале и связанные с ним основные приемы, трудовые навыки, сельскохозяйственные орудия, применявшиеся при выполнении различных работ, а также сопровождавшую их обрядность и сельскохозяйственную лексику.
Приведенный в работе материал позволяет утверждать, что земледелие, являвшееся основной отраслью хозяйства русских крестьян Латгале, во второй половине XIX — начале XX в. характеризовалось сравнительно низким уровнем развития, о чем свидетельствовало преобладание в этот период чересполосного хозяйства над участковым, трехпольной системы земледелия над многопольной, развитие лишь одной, жизненно необходимой отрасли земледелия — хлебопашества. Животноводство, огородничество и садоводство были развиты значительно слабее.
Трехпольной системе земледелия соответствовали и используемые русскими земледельцами Латгале приемы обработки земли, которые не обеспечивали достаточно глубокой вспашки, необходимого разрыхления и удобрения почвы, соблюдения необходимых норм высева и качественного задела семян, вследствие чего урожайность полей была низкой. Это не требовало изменений и в приемах уборки урожая.
Организация хозяйства русских крестьян Латгале строилась в основном на базе унаследованного от предков сельскохозяйственного календаря, в котором нашли отражение не только опыт, смекалка, практицизм крестьян, но и их верования, восходящие к язычеству. Агрономические знания, накопленные к началу XX в., проникали в крестьянское хозяйство лишь в очень слабой степени.
Многие приемы традиционной агрокультуры русских земледельцев прослеживались также у ряда народов Восточной и Северной Европы, которые, однако, к концу XIX в. уже отказались от традиционных форм и перешли на новую, более прогрессивную систему ведения хозяйства.
Низкий уровень развития земледелия обусловил и соответствующий уровень сельскохозяйственной техники у основной массы русских крестьян Латгале. Во второй половине XIX — начале
XX в. она была представлена преимущественно традиционными ручными орудиями труда, сохранившимися со времен феодализма.. Применение усовершенствованных орудий и сельскохозяйственных машин, как и приемов земледелия, сдерживалось малозе
мельем, характеризовавшимся к тому же чересполосицей, наличием пережитков крепостнической системы, высокими выкупными платежами и налогами, содействовавшими оскудению крестьянских хозяйств, и, наконец, слабым вовлечением их в орбиту товарно-денежных отношений.
Орудия труда русских крестьян Латгале, воспроизводившие в основном орудия земледельцев западных и частично северных областей Русского государства, имели аналоги в сельскохозяйственном инвентаре народов лесной полосы Восточной, частично Северной Европы. Это относится к двухлемешной сохе с перекладной полицей, всем типам борон и цепов, зазубренному (новгородского' типа) серпу и т. д., которые помимо Латгале имели широкое распространение в восточной Латвии, восточной Литве, северо-восточной Белоруссии, отдельных районах Эстонии, Финляндии к Швеции. Наличие общих типов отдельных сельскохозяйственных орудий, как и некоторых общих приемов земледелия, у народов названного региона было обусловлено главным образом общим уровнем развития производительных сил, контактами, существовавшими между этими народами, взаимосвязями и взаимовлияниями.
Животноводство, которое у русских крестьян Латгале не являлось самостоятельной отраслью хозяйства, а было связано и подчинено земледелию, во второй половине XIX — начале XX в. находилось на стадии экстенсивного развития, что объяснялось низким уровнем развития земледелия, недостаточностью пастбищ и лугов, а следовательно, слабой кормовой базой.
Приведенный в работе лексический материал указывает на общие черты в лексике русских Латгале и белорусов, русских и латышей, что в первом случае объясняется общностью происхождения русского и белорусского народов, а во втором — генетической близостью и взаимным влиянием. Но следует иметь в виду, что балтизмы в языке русских Латгале, а также общие с балтскими названия являются частью словарного фонда, унаследованного- ими от предков, что подтверждается употреблением этих слов во многих славянских языках и говорах. И, наконец, то обстоятельство, что сельскохозяйственная лексика русских Латгале, как и их обрядность, своими истоками восходит к лексике населения западных, отчасти северно-русских губерний (Псковская, Новгородская, Тверская), может служить одним из доказательств того, что в формировании русского населения Латгале ведущая роль принадлежала выходцам из этих губерний.
1
Рыболовство, пчеловодство во второй
половине XIX — начале XX в. в. экономике русских крестьян
Латгале играли незначительную роль и поэтому в. работе не
рассматриваются, так же как не рассматривается из-за объема работьс и
льноводство. О характере этих занятий и связанных с ними орудий труда)
на территории Латгале см. в раб.: Cimermanis S. Zvejas raksturs un
svarīgākie1 rīki Latgalē 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. — AE,
R., 1973, 10. laid., 115.— 139. lpp.; Cimermanis S.
Biškopības raksturs un svarīgākie piederumi Balvu un. Ludzas
rajonā 19. gs. otrajā pusē un 20. gs. — Ibid.,
141.—155. lpp.; Лейна-cape И. А. Льноводство и льноводческие
орудия в Латвии во второй половине XIX — начале XX в.
— В кн.: Этнографическое картографирование материальной
культуры Прибалтики. М., 1975, с. 79—90.
2
Подробнее см.: Васильев Е. Обозрение
хозяйства, с. 117; Столпянский Н. П. Девять губерний Западно-русского
края в топографическом, геогностическом, статистическом, экономическом,
этнографическом и историческом отношениях с картою. СПб., 1866, с. 92;
Хозяйственное положение и промыслы, с. 9.
3
Хозяйственное положение и промыслы, с. 12.
4
Васильев Е. Хозяйственные заметки о Витебской губернии. —
ЖМГИ, 1842, № 6, с. 151.
5
Доклад высочайше учрежденной комиссии. Приложения, т. 6, с. 162.
6
Хозяйственное положение и промыслы, с. 90.
7
Кофод А. А. Крестьянские хутора, с. 156.
8
Кофод А. А. Русское землеустройство. СПб., 1913, с. 13.
9
А {дле\р. Заметки о латышах трех инфлянтских уездов Витебской губернии.
— В к ж: Виленский сборник, 1869, т. 1, с. 231. Сажень
— русская мера длины, равная 2,13 м.
10
М. П. Крестьянские семейные разделы и их последствия. —
Виленский вестник, 1890, № 252, с. 1.
11
Труды местных комитетов. Вып. 5. Витебская губерния, с. 484.
12
Озимое поле русские староверы называли ржаным полем, православные
крестьяне — ржйнищем, оржйнищем. Ржанище — иск.,
твр., ржаное поле (Даль В. ТС, т. 4, с. 101).
13
Яровое поле у староверов Латгале называлось яриной.
14
Паровое поле староверы называли попйром, православные —
попйриной, паренйной. Последний термин употребляли и белорусы. Попар
— зап., пар, ларовое поле (Даль В. ТС, т. 3, с. 297).
15
Ермолов А. С. Организация полевого хозяйства. Системы земледелия и
севообороты. СПб., 1891, с. 145.
16
Ляда, лядйна — зап., сев., пустошь, заросль, покинутая и
заросшая лесом земля (Даль В. ТС, т. 2, с. 286).
17
Хозяйственное положение и промыслы, с. 93. Без учета хозяйств
кре-стьян-арендаторов.
18
Там же, с. 115.
19
Хозяйственное положение и промыслы, с. 115.
20
Васильев Е. Обозрение хозяйства, с. 134.
21
Хозяйственное положение и промыслы, с. 106; Экономический обзор
Витебской губернии за 1914 г. Витебск, 1915, с. 3.
22
Хозяйственное положение и промыслы, с, 109.
23
Хозяйственное положение и промыслы, с. 109.
24
Там же, с. 108.
25
ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д. 403, 430, 894, 1307, 1322, 1369 и др.
26
Хозяйственное положение и промыслы, с. 108.
27
Там же, с. 107, 108. Сравнительно большим посевам стручковых
латгальские уезды были обязаны как латышам, известным любителям гороха,
бобов и блюд, приготовлявшихся из них, так и пришельцам, не уступавшим
им в этом. Известно, например, что на Псковщине жителей некоторых
волостей называли в шутку бобовниками за их значительные посевы бобов
(Зеленин Д. К. Описание рукописей ученого архива императорского
Русского географического общества. Пг., 1916, вып. 3, с. 1135).
28
Анкеты РГО, д. № 10959.
29
Хозяйственное положение и промыслы, с. 113.
30
Сементовский А. М. Указ. раб., с. 21.
31
Васильев Е. Хозяйственные заметки, с. 152.
32 Очерки экономической истории.
1860—1900, с. 360.
33
Хозяйственное положение и промыслы, с. 110.
34
Там же, с. 111.
35
Сельскохозяйственные и статистические сведения по материалам,
полученным от хозяев. СПб., 1884, вып. 1, с. 181; А. X. Очерк населения
восточной части Витебской губернии. — Северный вестник, 1887,
№ 5, с. 124.
36
Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по
высочайшему повелению при I отделении департамента ген. штаба.
Витебская губерния / Сост. ген.-майор М. О. Без-Корнилович. СПб., 1852,
т. 8, ч. 1, с. 176.
37
Калика, каллика — пск., нвг., смл., брюква; калига
— прм., твр., вятск. — то же. В рус. говорах
возможно заимствование из эст. яз. — kaalik —
брюква, фин. kaali — капуста (Фасмер М. ЭСРЯ, 1967, т. 2, с.
167). Близкие к указанным русским названия брюквы имеются в бел., иол.,
лит., лат. яз. Ю. А. Лаучюте относит их в славянских языках к
недостаточно аргументированным балтизмам (Лаучюте Ю. А. Указ. раб., с.
142).
38
Грыжйна, грыжинка — бел., брюква. Грыжи — смл.,
грызы — твр. — то же (Даль В. ТС, т. 1, с. 133). На
Псковщине данные слова в указанном значении не зафиксированы. В говоре
русских Латгале, вероятно, заимствование из бел. яз. По Ю. А. Лаучюте,
в бел. яз. грыжа, грыза — балтизмы, лит. griēžtis —
брюква, лат. grieznis, griznis — то же (Лаучюте Ю. А. Указ.
раб., с. 65).
39
Баркан, боркан — иск., нвг., твр., птрб., калуж., морковь
(Даль В. ТС, т. 1, с. 50; СРНГ. Л., 1968, вып. 3, с. 99). Известно бел.
яз., рус. говорам Литвы, Эстонии, а также лит., нем. яз. В последних
двух возможно славянского ироис:£шкдения. Подробнее см.:
Мурникова Т. Ф., Семенова М. Ф. Указ. раб., с. 108.
40
Ботвинье, ботвинья — твр., тмб., свекла, корень, а также
холодная похлебка из нее (Даль В. ТС, т. 1, с. 120). По другим
источникам, также пск., смл. (ПОС, 1973, вып. 2, с. 134; Очерки русской
культуры XVI в. М., 1977, ч. 1, с. 84).
41
Бурак — южн., свекла (Даль В. ТС, т. 1, с. 142). Название
характерно для ряда слав. яз. — укр., бел., пол., чеш. и др.
(Фасмер М. ЭСРЯ, 1964, т. 1, с. 243). Имеется также в лит. яз.
— burokas и лат. говорах — bttraks, в которых оно,
по-видимому, славянского происхождения (Мурникова Т. Ф., Семенова М. Ф.
Указ. раб., с. 108).
42
Название зафиксировано также на Псковщине (Картотека ПОС), у русских
Литвы и в *ел. говорах (Мурникова Т. Ф., Семенова М. Ф. Указ. раб., с.
106). Происходит от нем. Runkel — свекла. По Ю. А. Лаучюте,
рункуль, рункаль в рус. говорах — балтизмы, так как проникли
в них через посредство балтийских яз. (Лаучюте Ю. А. Указ. раб., с.
129).
43
Семенов В. П. Указ. раб., т. 9, с. 250.
44
Порйчки, порёчки — южн, красная смородина (Даль В. ТС, т. 3,
с. 318). В этом же значении употребляли данное слово белорусы, поляки
(Немцева Л. И. Слова-дублеты в русских старожильческих говорах на
территории Латвийской ССР. — В кн.: Диалектологический
сборник, 1968, с. 87). На Псковщине слово не зафиксировано.
45
Агрест, агрус — южн., пск., смл., крыжовник (Даль В. ТС, т.
1, с. 5; СРНГ. М.—Л., 1965, вып. 1, с. 202; Г10С, 1967, вып.
1, с. 51). Имеется в рус. говорах Литвы (агрист, аграст, яграст), бел.,
укр., ряде зап.-слав., а также в лит. и других яз. А. Г. Преображенский
считал его в рус. яз. заимствованием из пол., в который оно проникло из
итал., agresto — кисть винограда (Преобра-женский А. Г. ЭСРЯ,
1959, т. 1, с. 2). По Ю. А. Лаучюте, в рус., бел. яз. как слово,
проникшее в рус. яз. через лит. яз., — балтизм, лит.
agrastas, agrastas, āgrostas — крыжовник (Лаучюте Ю. А. Указ.
раб., с. 97).
46
Анкеты РГО, д. № 10939.
47
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Витебская губерния,
с. 176.
48
Там же.
49
В Латгале русскими крестьянами в прошлом вместо слова
«пахать» употреблялось слово
«орать», фиксируемое в северных — олон.,
волог., арх., нвг., а также в пск. говорах. Южнорусы употребляли слово
«пахать» (Филин Ф. П. Исследование о лексике
русских говоров по материалам сельскохозяйственной терминологии.
М.—Л., 1936, с. 102). Слова «орать»,
«оральба» (пахота) употреблялись также в бел. яз.
(Никифоровский Н. Я- Очерки простонародного житья-бытья Витебской
Белоруссии. СПб., 1895, с. 442). Видимо, общими балто-славянскими
являются лат. art — пахать и лит. arti — то же.
50
Сельскохозяйственные и статистические сведения по материалам,
полученным от хозяев. СПб., 1897. Вып. 7. Возделывание картофеля в
Европейской России, с. 80, 81.
51
Вершок — мера длины в 4,45 см.
52
Leinasare I. Zemkopība un zemkopības darba rīki Latvijā
klaušu saimniecības sairuma laikā. R., 1962, 60. lpp.
53
О распространении описанных способов на Псковщине см. в кн.: Вебер К-
К.Очерки сельского хозяйства в губернии Псковской. СПб., 1880, с. 4; у
белорусов — в кн.: Молчанова J1. А. Материальная культура
белорусов. Минск, 1968, с. 15; Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с.
440—447; Народная сельскагаспадарчая тэхшка беларусау. Минск,
1974, с. 15—16; у латышей — в кн.: Leinasare I. Op.
cit., 25., 27., 60. lpp.
54
Минимальную норму для удобрения 1 дес. земли составляли 1600 пудов (80
возов) навоза (Васильев Е. Обозрение хозяйства, с. 138).
55
Васильев Е. Обозрение хозяйства, с. 138.
56
ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д. 894, 1322.
57
Там же, д. 1307, 1317, 1323, 1331, 1380.
58
По данным, полученным в 1872 г. РГО, видно, что в отдельных хозяйствах
крестьян Режпцкого уезда вывозилось по-прежнему от 45 до 50 возов
навоза, в Люцинском — 25—35 возов и в Динабургском
— от 20 до 50 возов (Анкеты РГО, д. № 10935, 10936, 10960,
10981, 10983 и пр.).
59
Очерки экономической истории. 1861—1900, с. 365.
60
Толока, толока — южн., зап., нвг., твр., помочь, коллективная
взаимопомощь (Даль В. ТС, т. 4, с. 413). Лексема известна в бел., укр.,
пол., а также в фин. яз. По Ю. А. Лаучюте, в славянских и фин. яз.
— балтизм (Лаучюте Ю. А. Указ. раб., с. 23—25). Но
имеются и другие точки зрения (Фасмер М. ЭСРЯ, 1973, т. 4, с. 73;
Urbutis V. Лаучюте Ю. А. Словарь балтпз-мов... — Baltistica,
t. 20, d. 2, 190. lpp).
61
Нйва — пашня, поле. Употребительно в зап. части сев.-рус.
говоров, а также в южной — юж.-рус. говоров (Филин Ф. П.
Указ. раб., с. 126).
62
Любимов Л. Дом детства. Повесть. Р., 1974, с. 68.
63
Анимелле Н. Быт белорусских крестьян. — ЭС, 1854, вып. 2, с.
241; Каминский В. Белорусы Новоалександровского уезда Ковенской
губернии в их песнях, обрядах, обычаях. — Филологические
записки, 1910, вып. 5, с. 766.
64
Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец XIX
— начало XX в. Летне-осенние праздники. М., 1978, с. 201, 224.
65
Терещенко А. Быт русского народа. СПб., 1848, ч. 5, с. 34. Автор данной
работы обычай обливания водой сводит к стремлению крестьян согнать
таким путем лень с женщин. Интересно отметить, что широко
распространенный у латышей обычай обливаться водой —
rumulēšanās накануне предпринимаемых в первый раз в году
работ — пахотой, севом, жатвой и, часто, выгоном скота в поле
совершался в общем с той же целью: чтобы работники были бодрыми и
усердными (Smits Р. Latviešu tautas ticējumi. R., 1940, 3.
sēj., Nr. 25980 (Рауна), Nr. 25981 (Поциемс), Nr. 25982 (Озолы), Nr.
25984 (Кацены) и др.). И только в отдельных местах этот обычай
совершали перед весенней пахотой для того, чтобы земля была влажной
(Smits P. Op. cit. R., 1940, 1. sēj., Nr. 1052).
66
Вольтер Э. А. Материалы для этнографии латышского племени Витебской
губернии. СПб., 1890, ч. 1, с. 89. В других историко-этнографических
областях Латвии с целью получения хороших удоев было принято обливать
водой пастуха в день первого после зимы выгона скота в поле (Smits
Р• Op. cit., 3. sēj., Nr. 25983 (Тирза)).
67
Подробнее об этом см. в раб.: Тихоницкая Н. Н. Сельскохозяйственная
толока у русских. — СЭ, 1934, № 4, с. 73—90.
68
Такой же способ исчисления сроков сева (от осени к весне, а не
наоборот) существовал в прошлом и у латышей, эстонцев, но отправной
точкой у них был иной день. Посевные недели латыши Курземе, например,
отсчитывали от дня Якоба — 24 июля к юрьеву дню —
23 апреля (Орановский А. Указ. раб., с. 121; см. также: Smits P. Op.
cit., 3. sēj., Nr. 26676, 26678).
69
Статистическое обозрение Псковской губернии в сельскохозяйственном
отношении. — ЖМГИ, 1853, ч. 49, кн. 10, с. 87,
89—91; Вебер Ķ. Ķ. Указ. раб., с. 11, 33;
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Псковская губерния
/ Сост. полковник Семека. СПб., 1852, т. 3, ч. 2, с. 274; Василев И. И.
Лен и Псковская губерния. Псков, 1872, с. 60.
70
Вебер К. К. Указ. раб., с. 11. Интересно отметить, что егорьевский сев
ячменя практиковался и у латышей в окрестностях Смилтене (Smits Р. Ор.
cit., 3. sēj., Nr. 20512, 20547).
71
Подробнее см. в кн.: Leinasare I. Op. cit., 26., 27. 1рр.
72
Васильев Е. Обозрение хозяйства, с. 134. На эти же сроки сева озимой
ржи указывали и инвентари имений.
73
А. Даугавпилсский р-н, 1954 г.
74
Вебер К, К. Указ. раб., с. 12; Статистическое обозрение Псковской
губернии, с. 86*
75
Употребление лексемы «леха» в значении грядки,
борозды, межи, меры площади свойственно всем слав. яз. (Фасмер М. ЭСРЯ,
т. 2, с. 490).
76
Поветер, поветёрье — ^еев., попутный ветер (Даль В. ТС, т. 3,
с. 151).
77
Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с. 442, 443; Leinasare I. Op. cit.,
27.,. 28. 1pp.
78
Smits P. Op. cit., 3. sēj., Nr. 25858.
79
Хозяйственное положение и промыслы, с. 96; А, Даугавпилсский р-н,.
1980, 1981 гг.
80
Хозяйственное положение и промыслы, с. 96.
81
Васильев Е. Обозрение хозяйства, с. 135; ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д.
403. По источнику нормы высева даны в четвертях.
82
Подробнее по Псковской губернии см. в кн.: Статистическое обозрение
Псковской губернии, с. 88; Нотгафт /(. О сельском хозяйстве в Псковской
губернии. СПб., 1875, с. 9; Очерк современного состояния главных
отраслей промышленности и быта жителей Псковской губернии. —
В кн.: Памятная книжка Псковской губернии на 1862 г. Псков, 1862, с.
59. О нормах высева в Латвии см. в кн.: Веймарн Ф. Материалы для
географии и статистики России, собранные офицерами ген. штаба.
Лифляндская губерния. СПб., 1864, с. 364; Орановский А. Указ. раб., с.
240, 244, 245, 249.
83
Василев И. И. Лен и Псковская губерния, с. 63.
84
Сельскохозяйственные статистические сведения, вып. 8, с. 15, 48, 88,
89, 129; Анкеты РГО, д. № 10959, 10979.
85
Хозяйственное положение и промыслы, с. 98; Сельскохозяйственный обзор
Витебской губернии. 1907—1908. Витебск, 1909, вып. 1, с.
84—86, 89.
86
У русских этот обычай был распространен в Псковской, Нижегородской*
Московской, Орловской губерниях (Соколова В. К. Весенне-летние
календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979, с. 146).
Известен он был и белорусам (Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вильна,
1912. Вып. 8. Быт белоруса, с. 276), а также части латышских крестьян
(Smits P. Op. cit., 1940,. 2. sēj., Nr. 16132 (Наудите)).
87
Церковный обычай освящать часть семенной ржи более строго соблюдался в
прошлом в Латгале латышами-католиками (у латышей-лютеран его не было),
а также крестьянами Белоруссии (Вольтер Э. А. Указ. раб., с. 75;.
Романов Е. Р. Указ. раб., с. 60).
88
Русский фольклор в Латвии, с. 58. Иногда эти зерна бросали в засек:
клети с хлебом или хранили за иконой (А, Резекненский р-н, 1979 г.).
Вера в. особую силу зерен из колосьев венка, сплетенного в жатву,
существовала в прошлом у латышей Латгале, Аугшземе. Одни из них венки
подвешивали к потолку, над обеденным столом, чтобы в доме не было
недостатка в хлебе,, другие — ради общего благополучия
хранили их в доме повешенными на стену, а третьи, как и русские, клали
на дно засека в клети, чтобы весной использовать их зерна для засева
(Dumpe L. Ražas novākšanas veidu attīstība Latvijā (no
senSkiem laikiem līdz XX gs. sākumam). — Grām.: Latvijas PSR
vēstures muzeja raksti. Etnogrāfija. R., 1964, 204. Ipp.).
89
Соколова В. К Указ. раб., с. 147.
90
А, Псковская .обл., 1978 г.; Никифоровский Н. Я Указ. раб., с. 443;
Анимелле Н. Указ. раб., с. 257; Шейн П. В. Материалы для изучения быта
и языка русского населения Северо-Западного края. СПб., 1902, т. 3, с.
229.
91
Анимелле Н. Указ, раб., с. 257.
92
Календарные обычаи и обряды. Летне-осенние праздники, с. 182.
93
Smits Р. Op. cit., 1. sēj., Nr. 1181, 1183; Трейланд (Бривземниекс) Ф.
Я-Материалы по этнографии латышского племени. — ИОЛЕАЭ, 1881,
т. 40. Труды этнографического отдела, кн. 6, с. 205.
94
ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д. 413а.
95 Там же, чи. 1307, 1323.
96
Анкеты РГО, д. № 10959, 10961, 10980, 10981 и др.
97
Там же, д. № 10979.
98
Там же, д. № 10936.
99 Анкеты
РГО, д. № 10939.
100
А, Резекненский р-н, 1956 г.
101
Доклад высочайше учрежденной комиссии, т. 1, с. 10;
Сельскохозяйственный обзор Витебской губернии, вып. 1, с. 12.
102
Сельскохозяйственный обзор Витебской губернии, вып. 1, с. 12.
103
Описание зажинных обрядов у латышей см. в кн.: Dumpe L. Op. cit., 179.,
180. 1pp.
104
На Псковщине помимо этого названия употребляли и другие —
«дожинки», «обжинки».
105
Яичница как обрядовое кушанье было характерно для некоторых северных
районов России — Костромской, Новгородской, а также
Псковской, Витебской, Владимирской, Орловской губерний (Терновская О.
А. Лексика, связанная с обрядами жатвенного цикла (Материалы к
словарю). — В кн.: Славянское и балканское языкознание.
Карпато-восточно-славянские параллели. Структура балканского текста.
М., 1977, с. 89). Название же «селянка» для яичницы
фиксировалось в Вятской и Пермской губерниях (Фасмер М. ЭСРЯ, 1971, т.
3, с. 598).
106
Спорина — успех, удача, выгода, прибыль, рост (Даль В. ТС, т.
4, с. 296). Спор — юж., зап. —• то же (Там
же, с. 297), имеется в бел. яз.
107
Не существовало обычая посвящения пожинальной бороды святым, богу у
русских лишь некоторых северных районов (Пинега, Холмогоры, Череповец),
Смоленска, а также у белорусов в районе Гомеля, Минска и ряде мест
Витебской губернии. Но крестьяне названных районов последние колосья,
однако, называли бородой (Терновская О. А. Указ. раб., с. 108).
108
Терновская О. А. Ареальная характеристика восточно-славянской
дожи-яальной обрядности. — В кн.: Ареальные исследования в
языкознании и этнографии. Л., 1977, с. 222—224.
109
Как составная часть дожинального обряда акт кувыркания на ниве
существовал также у латышей Видземе и Земгале (Dumpe L. Op. cit., 206.
1pp.).
110 ботян, ботьян,
батян — пск., белый аист (СРНГ, вып. 3, с. 139). Лексема
имеется в бел., укр., а также в ряде зап.-слав. яз. В вост.-слав. яз.
— заимствование из пол. яз. — bocian, диалект,
bocan, bociun и др. (Фасмер М. ЭСРЯ, т. 1, с. 201).
111
ЗеленЫ Д. К. Сх1дньо-слов’янськ1 хл1боробсью обряди качания й
пережидания по землг — Етиограф1чний вюник, Киев, 1927, кн.
5, с. 7.
112
Куляться — пск., смл., ектб., кувыркаться (СРНГ. Л., 1980,
вып. 16, с. 78), куликаться (в произношении староверов Латгале
— кулигаться) — волог., смл., ектб. и др.
— то же (Там же, с. 67).
113
Зеленш Д. К. Описание рукописей, 1914, вып. 1, с. 219; ЗеленЫ Д. К.
Схиньо-сл-ов’янсью хл1боробськ1 обряди, с. 5; Смиречанский В.
Этнографический очерк из быта крестьян Псковского уезда. — В
кн.: Псковский статистический (йборяик. Псков, 1871, с. 131.
114
В данном случае речь идет об одном этом элементе, являющемся
самостоятельным актом. В составе более широкого ритуала с серпом
оплетание прослеживалось по всей восточно-славянской территории
(Терновская О. А. Лексика, связанная с обрядами, с. 122, 123), а также
у латышей Латгале (Dumpe L. Op. cit., 205. 1pp.).
115
Снегирев И. П. Русские простонародные праздники и суеверные обряды..
М., 1839, вып. 4, с. 84, 85; Терещенко А. Указ. раб., ч. 5, с. 135.
116
Терновская О. А. Лексика, связанная с обрядами, с. 122, 123.
117
Смиречанский В. Указ. раб., с. 132.
118
Зернова А. Б. Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском
крае. — СЭ, 1932, № 3, с. 32.
119
Dumpe L. Op. cit., 204. 1pp.
120
Подробнее о жатвенном обряде латышей см. в кн.: Dumpe L. Op. cit.,
200,—206. 1pp.
121
Об устройстве заломов на хлебной ниве у псковских крестьян см. в раб.:
Смиречанский В. Указ. раб., с. 133; Владимирова Л. И. Лексика аграрных
обрядов и народных поверий в псковских говорах. Дипл. раб. ЛГУ им. А.
А. Жданова. Филол. фак. Л., 1967, с. 30 (Рукопись). О распространении
этой традиции у латышей см. в раб.: Трейланд Ф. Я. Указ. раб., с. 192;
Smits P. Op. cit., 2. sēj., Nr. 16149, 16150.
122
В 1954 г. 60-летняя женщина-информатор из деревни Павловское бывшей
Малиновской волости Двинского уезда была убеждена, что ее невестка
бездетна потому, что однажды утром она увидела у порога своего дома
кем-то подброшенной залом и, ничего не подозревая, взяла его в руки (А,
Даугав-лилсский р-н, 1954 г.).
123
Календарные обычаи и обряды. Летне-осенние праздники, с. 175, 187, 197,
208, 230.
124
Smits P. Op. cit., 2. sej., Nr. 11691, 11692; Трейланд Ф. Я. Указ.
раб., с. 168.
125
Терновская О. А. Славянский дожинальный обряд (Терминология и
структура). Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 1977, с.
170. Сжигание в ступице как один из методов избавления от
«злых чар» колдуньи использовали и латышские
крестьяне Латвии, но, в отличие от русских, у них была разница в
предмете, с помощью которого колдунья наносила вред. Обычно это было
яйцо, перевязанное красной ниткой [Трейланд Ф. Я. Указ. раб., с. 191).
126
Использование у русских Латгале для этой цели осинового дерева зиждется
на общем с белорусами поверье, что осина обладает исключительной силой
против всякой нечисти (Сержпутовский А. К. О завитках в Белоруссии
(Очерк из жизни крестьян южной Полесской части Слуцкого уезда Минской
губернии). — ЖС, 1907, вып. 1, с. 35).
127
Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половина
XIX — начало XX B.J. Новосибирск, 1978, с. 101.
128
Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967, с. 38, 39.
129
Историко-этнографический атлас Прибалтики. Земледелие. Вильнюс, 1985,
с. 35.
130
Лёмех, лёмеш — орл., кур., костр., сошник. Лексема имеется в
укр., бел., ряде зап. и юж.-слав. яз. Родственна лит. и лат.
— lemežis, lemesis {Фасмер М. ЭСРЯ, т. 2, с. 480; Даль В. ТС,
т. 2, с. 247).
131
А, Псковская обл., 1975, 1976, 1978 гг. Лемешницей называли эту часть
сохи латышские крестьяне на всей территории их проживания (Leinasare I.
Op. cit., 48. 1рр.). В Новгородской и Тверской губерниях для
обозначения рассохи употребляли в основном термин
«лукоть», а у белорусов Витебской губернии
— «дерево» (Зеленин Д. К Из быта и поэзии
крестьян Новгородской губернии (по материалам из бумаг В. А.
Воскресенского). СПб., 1905, с. 2; А, Калининская обл., 1980 г.;
Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с. 387).
132
Прйсох — нвг., сошная лопаточка для отворота земли (Даль В.
ТС, т. 3, с. 444). Это название употребляли и русские Причудья, Литвы
(Рихтер Е. Указ. раб., с. 58; Немченко В. И., Синица А. И., Мурникова
Т. Ф. Указ. раб., с. 257).
133
Обжа, вббжа — оглобли, ручки сохи. Лексема распространена в
сев,-,зап. группе сев.-рус. говоров, в южной части юж.-рус. наречия
(Филин Ф. П. Указ. раб., с. 120), а также у витебских белорусов и
латышей восточной части .Латгале (Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с.
387; Leinasare I. Op. cit., 58. 1pp.).
134 ш gT0 название использовали
также витебские белорусы (Никифоров-.ский Н. Я. Указ. раб., с. 387) и
часть латгальских крестьян-латышей (Leina-sare I. Op. cit., 49. 1pp.).
135
Корец — ковш, перекладина сохи. Ареал не указан (Даль В. ТС,
т. 2, -с. 163). По другим источникам, пск. (Вебер К. К. Указ. раб., с.
2; СРНГ. Л., 1978, вып. 14, с. 326).
136
Этот термин употреблялся староверами Иллукстского уезда, а также
витебскими белорусами. Но последние называли им другую деталь сохи (А,
Даугавпилсский р-н, 1981 г.; Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с. 389).
137
Название «подтяжки» для подвоев сохи употребляли
также витебские белорусы (Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с. 387).
138
Матики —• пск., твр., связка сошника с обжами (Даль
В. ТС, т. 2„ с. 308). К. К. Вебер эту деталь сохи у
псковичей, называет митюгами (Вебер К. К.. Указ. раб., с. 2).
139
Зеленин Д. К. Из быта и поэзии крестьян, с. 2; СРНГ. Л., 1976, вып. 11*
с. 25; А, Калининская обл., 1980 г.; А, Псковская обл., 1957, 1976 гг.;
Картотека ПОС.
140
Народная сельскагаспадарчая тэхшка, с. 18. О названиях этой частит сохи
у латышских крестьян см. в кн.: Leinasare I. Op. cit., 57. 1pp.
141
Дерван, дирван — зап., залей», верхний слой почвы,
заросший, травянистыми растениями (Даль В. ТС, т. 1, с. 507). Помимо
зап.-рус. говоров лексема зафиксирована в бел., пол., а также лит.,
лат. яз. В слав, языках считается заимствованием из лит. яз., dirti
— снимать дерн (Фасмер М. ЭСРЯ, т. Г,, с. 559).
142
Молчанова J1. А. Указ. раб., с. 25; Народная сельскагаспадарчая тэхшка,
f. 25, 27.
143
Вага — ряз., тмб., рычаг, шест для подъема чего-либо (Даль В.
ТС, т. 1, с. 159). По другим источникам, также иск., птрб., яросл. (А,
Псковская обл., 1957 г.; ПОС, 1976, вып. 3, с. 15; Мельниченко Г. Г.
Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961, с. 38). В
значении массы, тяжести является общеславянским заимствованием из
др.-в.-нем. Waga. В указанном нами значении известно в сербохор. и
словац. яз. (Этимологический словарь русского языка / Под ред. Н. М.
Шанского. М., 1968, т. 1, вып. 3, с. 4).
144
Левашева В. П. Сельское хозяйство. — В кн.: Очерки по истории
русской деревни X—XIII вв. М., 1956, с. 39.
145
Побоешка — пск., твр., колотушка (Даль В. ТС, т. 3, с. 135).
Ковач (ковка у староверов Латгале) — твр., большой молот
(Даль В. ТС, т. 2, с. 128). Тукмач — производное от
«тукмачить» — бить, колотить (Даль В. ТС,
т. 4, с. 441). Ареал не указан.
146
ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д. 846, 877, 1317, 1321, 1322.
147
Слово «борона» по происхождению сев.-рус., в
юж.-рус. говорах для бороны употреблялось слово
«скорода» (Филин Ф. П. Указ. раб., с. 104).
Скородили землю и белорусы (Народная сельскагаспадарчая тэхшка, с. 31).
148
Снарва, снавра — прм., шпонка, прогонный брусок, забитый в
паз поперек сплачиваемых досок, щита. Для глагола
«снавривать» В. Даль указывает «более
широкую территорию — Пензенскую и Симбирскую губернии (Даль
В. ТС, т. 4, с. 243). Распространение указанных названий в Приуралье
связано, вероятно, с приходом в край русских.
149
Феоктистова Л. X. Земледелие у эстонцев XVIII — начала XX в.
Системы и техника. М., 1980, с. 93.
150 зто название у русских
Латгале было зафиксировано этнографом И. А. Лейнасаре (Лейнасаре И. А.
Земледельческие орудия в крестьянских хозяйствах Латвии в XIX в.
— В кн.: Вопросы этнической истории народов Прибалтики. М.,
1959, с. 427).
151
Историко-этнографический атлас Прибалтики, с. 46.
152
Там же, с. 45, 46.
153
«Лешйть» в значении делить пашню на лехи (полосы),
отмечать соломой, прутьями, бороздкой границу падения зерна при севе
употреблялось во многих рус. говорах, в том числе в пск., нвг., твр. и
др. (СРНГ. Л., 1981, вып. 17, с. 33, 34). Имеется также в бел. яз.
(Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с. 446).
154
ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д. 469, 901 и др.
155
Левашева В. П. Указ. раб., с. 70. Составители атласа Прибалтики этот
тип серпа, являющийся здесь преобладающим, определяют как
«серп с крутоизогнутым зазубренным лезвием,
черенковый» (Историко-этнографический атлас Прибалтики, с.
68).
156
Яагосильд Э. К. Уборка ржи в Эстонии (конец XIX — начало XX
в.). — В кн.: Этнографическое картографирование, с. 53, 55.
157
Русские. Историко-этнографический атлас, с. 66.
158
Dumpe L. Op. cit., 54. Ipp.
159
Историко-этнографический атлас Прибалтики, с. 77.
160 Установлено, что за день
серпом можно убрать 1/3—1/4 пурного места, а косой-одноручкой
— одно пурное место (Dumpe L. Op. cit., 221. 1pp.).
161
Названия, употреблявшиеся русскими крестьянами Латгале, Литвы для
обозначения укладки снопов — «стоянка»,
«бабурка», имели распространение на Псковщине (Даль
В. ТС, т. 4, с. 333). Название же «бабка» имело
более широкий ареал —• Псковскую, Московскую,
Смоленскую и некоторые северные губернии (Русские.
Историко-этнографический атлас, с. 80).
162
Русские. Историко-этнографический атлас, с. 81.
163
Dumpe L. Op. cit., 187. 1pp.
164
руССКИе. Историко-этнографический атлас, с. 81; Народная
сельскагаспадарчая тэхшка, с. 58.
165
По копам, состоявшим из 6 стоянок по 10 снопов, определяли урожай
латышские крестьяне восточной Латвии (Dumpe L. Op. cit., 186. 1рр.),
витебские белорусы (Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с. 453). Лексема
«копа» зап. (Даль В. ТС, т. 2, с. 157), свойственна
многим слав., а также лит., лат. яз. (Фасмер М. ЭСРЯ, т. 2, с. 316).
166
Острбвья — пск., нвг., птрб., прм., срубленные нетолстые
деревья, ле-шины с подсеченными сучьями (Даль В. ТС, т. 2, с. 706).
Аналогичные названия существовали и у белорусов — астроую,
астрыуё (Молчанова Л. А. Указ. раб., с. 38).
167
Одонок — cap., кур., орл.; одонье — нвг., cap.,
тмб., тул„ круглая кладь хлеба в снопах (Даль В. ТС, т. 2, с.
655). В бел. яз. «адзенок» означал настил с шестом
в центре для стога сена (Молчанова Л. А. Указ. раб., с. 58).
168
Зарод, озород — сев., вост., стог, скирда, большая кладь
сена, хлеба не круглой, а продолговатой клади (Даль В. ТС, т. 1, с.
629). Слово фиксируется также в пск. говорах (Филин Ф. П. Указ. раб.,
с. 108, 109). Помимо рус. известно другим слав. яз. — Укр.,
бел., пол., словац. (от праслав. zerdmen, zord — огороженное
место), а также ряду неслав. яз. — др.-прус, sardis, лит.
žardas, лат. zārds (Фасмер М. ЭСРЯ, т. 3, с. 126), эст. (Dumpe L. Op.
cit., 194. 1рр.). Ю. А. Лаучюте «азярод» в бел. яз.
относит к балтизмам, но с оговоркой, что балтийское происхождение его
недостаточно аргументировано (Лаучюте 10. А. Указ. раб., с. 137).
169
Подробнее см. в кн.: Историко-этнографический атлас Прибалтики, с. 75,
76.
170
Рей — рига, овин, слово фин. происхождения: эст. rei, rihi,
фин. riihi — то же (Фасмер М. ЭСРЯ, т. 3, с. 463). Характерно
для русских западных областей (Даль В. ТС, т. 4, с. 90), а также для
бел., пол., лит. яз. По Ю. А. Лаучюте, в рус., бел. яз. слово является
балтизмом (Лаучюте Ю. А. Указ. раб., с. 32, 33), так как проникло в эти
языки через посредство балтийских (лит. r'ejā, rijā, лат. rija).
171
Ареалы слов в указанном значении у русских очень широки (см.: СРНГ, Л.,
1972, вып. 7, с. 198, 230, 231). Оба слова были характерны не только
для др.-рус. яз., но и для многих слав, и др. яз. Об этимологии слов
см.: Фасмер М. ЭСРЯ, т. 1, с. 474; т. 4, с. 70.
172
Посад — пск., твр., смл., количество снопов, которое может
поместиться в риге для одноразовой сушки (ООВС, 1852, с. 172).
173
Cimermanis S. Latviešu tautas dzīves pieminekļi. R., 1969,
48. lpp.
174
Кару Э. X. Способы молотьбы в Эстонии во второй половине XIX
— на-: XX в. — В кн.: Этнографическое
картографирование, с. 72.
175
Русские. Историко-этнографический атлас, с. 85, 86.
176
Leinasare I. Op. cit., 120. 1pp.
177
Слово «цеп» употреблялось в юж.-рус. говорах;
«приуз», «привязь»
фиксировались лишь в сев.-зап. группе говоров (нвг., пск., твр., олон.,
арх., отчасти волог.), для остальных сев.-рус. говоров были характерны
названия «моло-тйло»,
«молотилка» (Филин Ф. П. Указ. раб., с. 117). По
нашим данным, названия «молотилка»,
«цеп» в конце XIX в. употреблялись в Псковской
губернии, в частности в Опочецком уезде, «цеп» у
белорусов, а «ручник», или, точнее,
«рутник» — в Островском уезде (А,
Псковская обл., 1978 г.; Никифоровский Н. Я. Указ. раб., с. 402).
Термин «привязь» встречался у части белорусов, но
для обозначения ремешка, соединяющего било с рукояткой (Молчанова Л. А.
Указ. раб., с. 41).
178
Цапок, цепок — зап., калуж., палка, посох, кий (Даль В. ТС,
т. 4, с. 570).
179
Цавьё, цевьё — зап., рукоять, ручка (Даль В. ТС, т. 4, с.
570). Название «цавье» было характерно и для части
белорусов.
180
Leinasare I. Op. cit., 114., 115. 1рр.; Кару Э. X. Указ. раб., с. 69;
Историко-этнографический атлас Прибалтики, с. 89.
181
«Стебать» в смысле хлестать — смл. (Даль
В. ТС, т. 4, с. 320).
182
Кару Э. X. Указ. раб., с. 66; Молчанова J1. А. Указ. раб., с. 42;
Историко-этнографический атлас Прибалтики, с. 89.
183
Кару Э. X. Указ. раб., с. 75.
184
Там же, с. 76.
185
О распространении этого способа у названных народов см. в кн.: Русские.
Историко-этнографический атлас, с. 95; Leinasare I. Op. cit., 136.
1pp.; Молчанова JI. А. Указ. раб., с. 43; Историко-этнографический
атлас Прибалтики, с. 100.
186
Шуфла — медный совок или лопата, которой засыпали порох в
орудия (Даль В. ТС, т. 4, с. 650; Фасмер М. ЭСРЯ, т. 4, с. 492). Этот
факт свидетельствует об архаичности употребляемого староверами Латгале
названия. У белорусов название «шуфля» (лопата) для
шуфлевания зерна встречается в письменных документах
XVI—XVIII вв. (Молчанова JJ. А. Очерки материальной культуры
белорусов XVI—XVIII вв. Минск, 1981, с. 54). В рус. и бел.
яз. слово вошло через пол. szufla -— лопата из ср.-в.-нем.
Schfivel (Фасмер М, ЭСРЯ, т. 4, с. 492). Однако в пск. говорах,
согласно данным картотеки ПОС, оно не отмечено.
187
Употребление названия «пёлька» в значении
деревянного совка было характерно для псковичей (Даль В. ТС, т. 3, с.
28).
188
Пела, пелы — нвг., шелуха, мякина, лузга при обмолоте зерна
(Даль В. ТС, т. 3, с. 28). Лексема употребляется в вост.-слав., в ряде
зап.- и юж.-слав. яз. Родственна лит., лат., др.-прус, (pelai, peli,
pelavas, peļwo), др.-инд.. palavas, латин. palea (Фасмер М. ЭСРЯ, т. 3,
с. 227; Преображенский А. Г.. ЭСРЯ, т. 2, с. 33).
189
Вебер К. К. Указ. раб., с. 23; Лейнасаре И. А. Земледельческие орудия,
с. 436.
190
Leinasare I. Op. cit., 135. 1pp.
191
Гирса в одних местах Латгале -— мелкое, легковесное зерно,
произрастающее в сырое лето, в других — мякина, плевелы. По
словарям М. Фас-мера, Ф. П. Филина, слово «гирса»
— зап. диалектизм, означает сорняк, плевелы. Помимо зап.-рус.
говоров зафиксировано также в бел., укр., пол. яз.,. в слав. яз.
—• заимствование из лит. яз. girsa, лат.
dzirši — то же (Фасмер М. ЭСРЯ, т. 1, с. 408;
СРНГ. Л., 1970, вып. 6, с. 175; Лаучюте Ю. А. Указ. раб.,
192
Бредок от бредь, бред — нвг., птрб., верхняя часть снопа с
зерном: (СРНГ, вып. 3, с. 170, 172).
193
Пуня, пулька — сенной сарай, клеть, пристройка. Лексема
характерна для юж.-рус. говоров, но через западные губернии непрерывной
полосой проходила и на северо-запад, в новгородскую группу говоров
(Филин Ф. П. Указ. раб., с. 122). В том же значении употреблялась в
остальных вост.-слав, яз., в пол., а также лит. (pūne, pūne), лат.
(pūne) яз. Восточными славянами заимствована из лит. яз. (Фасмер М.
ЭСРЯ, т. 3, с. 407).
194
Семенов В. П. Указ. раб., т. 9, с. 258.
195
Пожня — сев., вост., покос, луг (Даль В. ТС, т. 3, с. 223).
196
ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д. 1307, 1323 и др.
197
В число лощадей при расчетах мы включили 35 волов, имевшихся в;
отдельных крестьянских дворах имения Иозефииово.
198
ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д. 424, 1391.
199
Васильев Е. Обозрение хозяйства, с. 128.
200
Анкеты РГО, д. № 10978, 10979, 10980, 10982.
201
Хозяйственное положение и промыслы, с. 158.
202
Там же, с. 153.
203
Там же, с. 155.
204
Там же, с. 162.
205
Доклад высочайше учрежденной комиссии. Приложения, т. 6, с. 163.
206
Михельсон Б. О средствах к улучшению скотоводства в западных
гу-•берниях средней полосы. — ЖМГИ, 1846, ч. 21, №
12, с. 111.
207
Михельсон Б. Указ. раб., с. 113.
208
Сельскохозяйственный и экономический быт старообрядцев, с. 122.
209
Рейшах-рит К. О причинах неудовлетворительного состояния скотоводства в
губерниях Псковской и Витебской и о средствах к его улучшению.
— ЖМГИ, 1848, ч. «7, с. 33—68.
210
Хозяйственное положение и промыслы, с. 166.
211
Смильгевич И. Литовско-белорусский скот. — Молочное
хозяйство. Луговодство, травосеяние, скотоводство и свиноводство, 1902,
№ 3, с. 59.
212
Семенов В. П. Указ. раб., т. 9, с. 261.
213
Сельскохозяйственный и экономический быт старообрядцев, с. 112.
214 А. X.
Очерки сельского населения Белоруссии (корреспонденция из Витебского
уезда). — Русская речь, 1880, № 6, с. 91.
215 Доклад
высочайше учрежденной комиссии. Приложения, т. 1, с. 131.
216 Описание инфлянтских уездов
Витебской губернии в историческом, этнографическом и статистическом
отношении. Составлено в 1886 г. — В кн.: Памятная книжка
Витебской губернии на 1887 г. Витебск, 1887, с. 44; Manteuļ-fel G.
Inflanty Polskie. Poznaņ, 1897, s. 46.
217
Кйрмаш от нем. Kirmes, Kirmesse. По В. Далю, зап., рынок, торг, базар,
у раскольников западных губерний — гулянье, народный праздник
(Даль В. ТС, т. 2, с. 109). Лексема имеется также в бел., пол. яз.
218
Юрий Тынянов. Писатель и ученый, с. 10.
219
Ковальченко И. Д. К истории скотоводства в Европейской России в XIX в.
— В кн.: Материалы по истории сельского хозяйства и
крестьянства СССР, сб. 4, с. 179.
220 цгИА БССР, ф. 2635, on. 1,
д. 396, 404, 430, 1331. Мурог — южн., зап., мурова
— луговая трава, луг, пожня (Даль В. ТС, т. 2, с. 360).
221
Первая лексема (резка) употреблялась в сев. говорах, в частности в
костр., а вторая,, (сечка) — в говорах южных и западных
губерний (Покровский Ф. Особенности в говоре населения, расположенного
по реке Письме Костромской губернии Буйского уезда. — ЖС,
1895, вып. 3—4, с. 415; Даль В. ТС, т. 4, с. 382).
222
Мйндара — сев., вост., мелочь, крохи, обрезки и т. д. (Даль
В. ТС,, т. 2, с. 327).
223
Вытряска у староверов Латгале называлась также трясенкой, гаем. Это
мятая, сорная солома, вытрясенная из обмолоченной длинной кулевой
соломы, идущей на крыши. Гай — пск., сор в зерновом хлебе
(Даль В. ТС, т. 1, с. 340). Составители «Псковского
областного словаря» под этим названием имеют в. виду мятую,
сорную солому (ПОС, вып. 1, с. 11).
224
Сельскохозяйственный обзор Витебской губернии, вып. 1, с. 44.
225
Там же, с. 49, 50.
226 цгИА БССР, ф. 2635, on. 1,
д. 403, 469; Михельсон Б. Указ. раб., с. 120.
227
ЦГИА БССР, ф. 2635, on. 1, д. 403, 469, 1307, 1323, 1355 и др.
228
Конюхова Т. А. Указ. раб., с. 237.
229
Там же.
230
Памятная книжка Витебской губернии на 1861 год. Витебск, [б. г.], ч. 2,
с. 10.
231
Михельсон Б. Указ раб., с. 114.
232
Smits P. Op. cit., 3. sēj., Nr. 25221—25229 и. с.
233
Гйзандать — олон., медленно идти (СРНГ, вып. 6, с. 170). В
данном случае, вероятно, чтобы не отставала от стада.
234
Соколова В. К. Указ. раб., с. 162. У большинства русских эту вербу
сжигали или втыкали в землю на поле, что было связано с магией
плодородия: верба обеспечивала урожай.
235
Соколова В. К. Указ. раб., с. 100.
236
Sniitsi,P. Op. cit., 3. sēj., Nr. 25217.
237
Вольтер Э. А. Указ. раб., с. 5.
238
Соколова В. К. Указ. раб., с. 160.
239
Там же, с. 161.
240
Владимирова Л. И. Указ. раб., с. 16; Зеленин Д. Ķ. Описание рукописей,
вып. 1, с. 142.
241
Smits P. Op. cit., 2. sēj., Nr. 11634 (Лубана), Nr. 11635 (Дзелзава),
Nr. 11637 (Вецпиебалга) и. с.; Dumpe L. Lopkopības tradīcijas
latviešu zemnieku gadskartu svinībās 18.-19. gs. —
AE, R„ 1970, 9. laid., 118. lpp.
242
Милюс В. К- Пища и домашняя утварь литовских крестьян в XIX и начале XX
в. — В кн.: Балтийский этнографический сборник. М., 1956,, с.
161.
243
Соколова В. К. Указ. раб., с. 164—166.
244
А, Даугавпилсский р-н, 1982 г.
245
Терещенко А. В. Указ. раб., СПб., 1848, ч. 6, с. 45; Коринфский А. А.
Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц
русского народа. М., 1901, с. 265. Лишь с замосковскими (какими точно,
неизвестно) селениями связывал распространение этой традиции И. П.
Сахаров (Сахаров И. П. Сказания русского народа. СПб., 1849, т. 2, кн.
7, с. 29).
246
Вольтер Э. А. Указ. раб., с. 6, 26; Smits P. Op. cit., 2. sēj., Nr.
12133, 12135, 12166, 12167, 12177 и. с.
247
Снимок — том., ирк., сливки, сметана (Ламанский В. Говор
южной части Томского округа Томской губернии. — ЖС, 1895,
вып. 3—4, с. 418; ООВС, с. 209). Вероятно, в Сибирь слово
принесено русскими выходцами из централь-мых губерний.
248
Пропп В. Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического
исследования). Л., 1963, с. 62; Календарные обычаи и обряды.
Летнеосенние праздники, с. 175, 187, 208, 230.
249
Подробнее см. в кн.: Трейланд Ф. Я. Указ. раб., с. 163, 164, 168; Dumpe
L. Lopķopības tradīcijas, 118. lpp.
250
Чмур — зап., пск., хмель в голове, опьянение, одурение, угар,
чад и т. д. (Даль В. ТС, т. 4, с. 609). В бел. яз. чмуренне —
то же (Носович И. И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870, с. 751).







