Не играйте со спичками
Всеволод Биркенфельд
Часть 1
"Даугава" №1, 1997
Исповедь сына своего времени
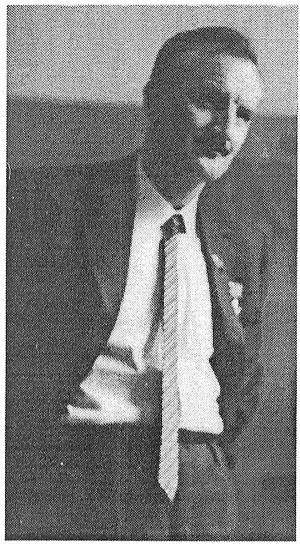
В
Исландии, говорят, есть такой обычай: каждый взрослый мужчина должен
написать книгу, любую книгу — любовный роман, научную
монографию, автобиографическую повесть или руководство по выращиванию
рододендронов — кто что умеет. Затем он эту книгу издает
небольшим тиражом и раздает своим родственникам и друзьям. И в книжном
шкафу каждого исландца (а исландцы — читающий народ) есть
полка, на которой стоят книги его близких и друзей...
Этот обычай мне очень понравился, и я решил ему последовать, хотя я и не исландец. Так как я ничего другого не умею, я написал
свою биографию. И именно с этой целью — подарить книжку своим близким. А потом в гордыне своей подумал — а вдруг кому-нибудь будет интересна моя точка зрения, точка зрения свидетеля и участника событий далеких и не столь далеких. И я решился отдать на суд читателя этот небольшой опус — итог одной жизни.
“Я родился 5 апреля 1927 г. в Риме (Италия). Родители мои работали за границей, в аппарате Наркомата иностранных дел СССР, поэтому я до 1928 г. жил в Риме, а с 1928 по 1938 г. во Франции, в Париже...”
Так, одними и теми же словами, начинал я все свои автобиографии, вручаемые в отделы кадров за пятьдесят три года жизни в СССР. И при этом лгал, хотя долго сам не знал об этом. Дело в том, что мои родители вовсе не были служащими Наркомата иностранных дел. Отец мой, полковник Красной Армии, служил в Главном разведывательном управлении РККА, иными словами, был шпионом, или, выражаясь возвышенным слогом, — разведчиком. Мама при нем — шифровальщицей. Но об этом я узнал много позже, году в 1970-м, а до этого действительно полагал, что мои родители работали в посольстве. По странному недомыслию, я за все эти годы ни разу не задался вопросом — а почему, собственно говоря, во Франции у нашей семьи была другая фамилия и почему мы в семье говорили по-французски, а не по-русски, и почему я до самого приезда в СССР был уверен, что мы — канадцы и уезжаем на родину — в Квебек.
Но я забежал вперед... Итак, детство в прекрасном городе Париже, в обеспеченной семье канадского коммерсанта средней руки (таким, по легенде, был мой отец). В памяти остались красочные обрывки ~ Люксембургский сад, круглый бассейн с фонтаном, а в бассейне плывут разноцветные кораблики, яркое солнце в голубом небе, зеленые деревья, пестрые цветы, широкие асфальтовые аллеи парка Ла-Мюэтт, отданные в полное распоряжение визжащей толпы детей на роликовых коньках.
От школы остались весьма смутные воспоминания — первые два
года в чопорном и чинном лицее, где пятью классами старше училась моя сестра Матильда (а по-настоящему Наташа), а затем в довольно разболтанной коммунальной школе. Учителей я не запомнил (далеко мне, к сожалению, до примерных детей, на всю оставшуюся жизнь запомнивших любимых учителей). Из товарищей помню только необычайно толстого Леона. Бедняга страдал неправильным обменом веществ и из-за своей карикатурной полноты подвергался жестоким насмешкам. Однако при этом он неизменно сохранял благодушие и доброжелательность, что меня в нем и пленяло. Пожалуй, он был единственным моим другом.
Ярко помню также строгое внушение, сделанное мне отцом, когда было мне, кажется, лет десять. А провинность моя заключалась в том, что, тривиально разбив окно мячом во время переменки, я не сознался в этом поступке, но был изобличен и наказан — оставлен на несколько часов после уроков за переписыванием латинских изречений. (Был такой вид наказания во французских лицеях того времени. Возможно, существует и сейчас. Должен признаться, что оно, это наказание, весьма способствует запоминанию латинских изречений.) О моем проступке было, естественно, сообщено родителям, и отец меня достаточно жестко отчитал — не за проступок, а за то, что я соврал, убоявшись наказания. Урок я запомнил, и хотя не стал в жизни меньше лгать, но, по крайней мере, никогда больше не уходил от ответственности за свои поступки.
Дружили мы с семьей русских эмигрантов Сопруновых. Глава семьи — инженер Федор Прокофьевич — был в моих глазах воплощением русского казака (“cosaque”), какими они сложились в моем воображении: невысокого роста, тучный, с румяным (весьма румяным) лицом, пышными, густыми усами — я так и ждал, что он пустится вприсядку. Жена — Марья Николаевна — тоже выглядела эффектно с косой, уложенной короной на голове. В их доме я отведал много диковинных блюд со странными названиями: borchtch, kvass, shproti...
Было у них два сына — Тодик и Алик (т.е. Федор и Александр), чуть постарше моей сестры, которые меня, мелюзгу, естественно, не удостаивали своим вниманием. Мне же безумно нравилось быть в их комнате: разделенная пополам незримой чертой, она воплощала территорию, в которой сосуществовали различные, трудно совместимые интересы. Половина Алика — спортивного крепыша — была увешана боксерскими перчатками, гантелями и неизвестными мне, но от этого не менее интересными разновидностями спортивного снаряжения. Половина Тодика — задумчивого книгочея — была в живописном беспорядке завалена пыльными фолиантами, картинами без рам. Венцом этого пиршества интеллекта был висевший в углу человеческий скелет — доказательство принадлежности Тодика к братству студентовмедиков Сорбонны. На общей для обоих владельцев стене висела черная школьная доска, на которой мне разрешалось рисовать цветными мелками.
Когда мы приходили в гости к Сопруновым, то обычный расклад был такой: родители беседовали в гостиной, Тодик с Матильдой, которые питали друг к другу нежные чувства, уходили гулять, Алик исчезал неизвестно куда, я же мог часами балдеть от блаженства в этой изумительной комнате.
Итак, в октябре 1938 года мы решили вернуться на родину, в Канаду. Несколько недель длилась суета с упаковкой вещей, дюжие грузчики разбирали мебель и заколачивали ее в ящики (контейнеров в то время еще не знали), и в один прекрасный день мы поездом поехали в Гавр. Там мы сели на пароход “Феликс Дзержинский” под красным флагом, что меня несколько удивило, но не более того. Северное и Балтийское моря сильно штормило, и переход оставил во мне крайне тягостное воспоминание беспрерывной тошноты и головокружения. Поэтому по прибытии я вяло поинтересовался — “Это Монреаль?”, и ответ отца — “Нет, это Ленинград, мы приехали в Советский Союз”, — оставил меня равнодушным. Я был рад, что наконец кончилась качка. На следующий день мы поездом поехали в Москву, остановились в гостинице “Метрополь”, и в тот же день отец был арестован. То есть утром он ушел и больше не вернулся. Вместо него пришли какие-то люди в военной форме и стали рыться в чемоданах, выкидывая оттуда на пол все содержимое. Я с гордостью носил на поясе подаренный мне отцом игрушечный финский нож величиной с мизинец. Бдительный энкаведист узрел его и, несмотря на мои бурные протесты, отобрал. Много позже я узнал, что его квалифицировали как холодное оружие. На следующий день нас из “Метрополя” выкинули и привезли на окраину Москвы, в село Богородское, в дом, где селили семьи арестованных “врагов народа”, прибывших из-за рубежа.
Таким вот образом кончилось мое беззаботное, счастливое детство и началась моя советская жизнь с клеймом “сына врага народа”.
Пошел я в рядовую московскую школу, в тот же пятый класс, который посещал в Париже. Учитывая то, что я не знал ни одного русского слова, мне пришлось осваивать язык методом, которым щенок, брошенный в воду, осваивает плавание. К счастью, я был в классе не единственной белой вороной. Мы сидели за одной партой с моим другом Ульрихом, приехавшим из Австрии. Объяснялись мы с ним на смеси французского, немецкого и английского и хорошо понимали друг друга. В основном потому, что все школьные переменки мы проводили стоя спиной к спине и отбиваясь от своры мальчишек, пышущих ненавистью к “иностранным шпионам”. Били нас жестоко, в кровь, и проходящие мимо учителя деликатно отворачивались. Впрочем, был у меня приятель из русских, по фамилии Кулаков, который учил меня русскому языку (в основном матерному) в обмен на последние остатки французских игрушек и безделушек. Через полгода я уже сносно говорил по-русски, через год перешел в следующий класс.
Наступил 1940 год и трудящийся народ Латвии (равно как и Эстонии и Литвы) с огромным энтузиазмом присоединил свою страну к Советскому Союзу. А из Латвии, между прочим, родом мой отец, и с установлением советской власти в Латвии из заключения была освобождена его сестра Мильда, коммунист-подпольщик с большим стажем, и избрана первым секретарем Екабпилсского уездного комитета партии. Мильда тут же разыскала нас в Москве и стала бурно хлопотать о пересмотре отцовского дела (забегая вперед, скажу, что, несмотря на все ее заслуги, хлопоты ни к чему не привели, и отец вернулся только спустя двенадцать лет, проведенных в лагере на Колыме). Разыскав нас, тетя тут же забрала меня к себе в Екабпилс, чтобы немножко подкормить, ибо жили мы голодновато, распродавая немногие французские вещи, оставшиеся от конфискации, так как маму, естественно, никуда на работу не брали. Пробивались мы также случайными заработками — например, я помню, как мы выполняли заказ какой-то артели на изготовление первомайских флажков, втроем сидели с утра до вечера, вырезали из ленты эти флажки и приклеивали к древкам. Платили, как я понимаю, за эту работу копейки. Правда, тогда и жизнь была дешевой.
Таким образом, в начале 1941 года я попал в Латвию. Рига живо мне напомнила Париж, особенно по контрасту с Москвой. Я гордо ходил по улицам в красном пионерском галстуке, чеканя шаг (галстук я носил самозванно, ибо никто меня в пионеры не принимал, но я чувствовал необходимость достойно представлять Советскую Власть в новой Республике. Не забывайте, что моя тетя была убежденным коммунистом).
22 июня началась война, и в большой суматохе тетя Мильда посадила меня на поезд, уходивший в Россию 24 июня, за два дня до падения Риги. Наш эшелон с семьями латышских советских активистов направлялся в Кировскую область (бывшую и нынешнюю Вятку), шел тяжело, медленно, извилисто, через Горький, Арзамас, Куйбышев, уступая дорогу встречным эшелонам с солдатами и оружием и обгоняющим эшелонам с оборудованием демонтированных заводов. Однажды мы попали под бомбежку, но, к счастью, обошлось без жертв. Я смутно помню эту поездку и не сумею ответить, на что я жил. Должно быть, кормили меня добрые соседи по купе, чьим заботам поручила меня тетя Мильда. Так же смутно и абсолютно нечетко в моей памяти остались приезд в Киров и переезд на так называемые “дачи облисполкома” — летние домики руководителей области, расположенные в живописном лесу километрах в сорока от города и отданные в распоряжение латвийской колонии.
Начали мы жить на природе и ходить в школу-семилетку за семь километров в ближайшее село Кстинино. (Рядом с нами была деревня с классическим названием Голодница, но там не было школы.)
Летом было великолепно. Я нанимался на всякую временную работу в колхозе деревни Голодница (колхоз назывался “Динамо”). От пахоты осталась в памяти безмерная усталость, сведенные руки и ноги и бесконечно, до головокружения, разворачивающаяся в моем мозгу панорама борозды. От ночной пастьбы осталось восхитительное, ни с чем не сравнимое ощущение езды галопом (да еще без седла, “охлюпкой”, с одной веревочной уздечкой в руках). От метания сена в копны разбитое от усталости тело было покрыто липким потом с сенной трухой. С каким наслаждением после работы мы бежали к речке, срывая на ходу трусы и майки, и без остановки сигали с обрыва в благословенную прохладную воду.
Из событий тех лет, оставивших глубокий след в моей памяти, помню пожар — сгорела изба Народного писателя Андрея Упита. Маленький деревянный домик вспыхнул как солома и очень быстро выгорел дотла. Произошло это ясным летним вечером, и вещи вынести не успели. Народный писатель стоял неподвижно в стороне с каменным лицом, седая супруга его металась рядом, всплескивая руками, а внук Айвар возбужденно бегал вокруг горящего дома. Остальные члены колонии пытались что-то делать, довольно бестолково и суетливо бегали с ведрами (пруд находился метрах в трехстах от пожара), но сделать ничего не удалось, и через полчаса от дома осталась куча дымящихся головешек.
Одним из заметных людей нашей колонии был профессор Кирхенштейн, первый Председатель Верховного Совета Советской Латвии. Я его хорошо запомнил, потому что у него был тонкий писклявый голос (говорили, что у него в горло вставлена серебряная трубка). Он
считал панацеей от всех бед витамины и угощал нас, детей, сладкими таблетками витамина С, чем завоевал нашу безграничную любовь.
Весело отпраздновали Лиго. Взрослые пили пиво и жгли костры, молодежь парами прыгала через эти костры, дети с криками бегали взад-вперед и тоже пытались прыгать через костры, их отгоняли оплеухами. Один из нас, Павлик, умудрился-таки перемахнуть через костер, но неудачно приземлился и сломал ногу. Это событие, равно как и последующее трехмесячное ковыляние на костылях с ногою в гипсе, сделало его в наших глазах героем. Впоследствии он стал довольно известным художником в Латвии.
Словом, летом было хорошо. Зато зимой... Зима 1941-1942 года была лютой. Морозы стояли под 40 градусов, вьюги, метели... Одет я был плохонько — брюки, ботинки, ватник. Спасали в какой-то мере газеты, которые я обматывал вокруг туловища и запихивал в ботинки, но все равно мерз нещадно, и на всю жизнь у меня остались обмороженные руки и ненависть к холоду. Дорога в школу шла частью лесом, частью полем. В поле ветер хлестал нещадно, а в лесу, в темноте, было страшно. В школе тоже было нежарко — чернила замерзали в чернильницах-непроливайках.
Время от времени я прерывал занятия в школе и для заработка работал . в лесу, заготавливая чурки для автомобилей. Маленькое отступление: так как нефть в огромном количестве была нужна армии, все автомобили в тылу (и грузовые, и легковые) были переоборудованы на газогенераторые двигатели. Сбоку кабины был установлен котел метра полтора высотой и полметра в диаметре, топился он деревянными чурками. Газ от сгорания поступал в двигатель. Маленьких этих чурок для автомобильного парка страны требовалось ошеломляющее количество, и в бескрайних русских лесах десятки тысяч людей безостановочно валили, пилили и кололи деревья. Там-то я и приобрел квалификацию лесоруба, научился с наименьшим расходом физических сил, грамотно валить деревья, очищать их от сучьев и раскалывать на чурки. Работали мы парами, и за сутки вдвоем надо было заготовить три кубометра чурок, что требовало крайнего напряжения (мотопил тогда, конечно, не было) и абсолютно не оставляло времени на перекуры (к счастью, я тогда и не курил). Летом опять-таки все было неплохо, если только не считать туч кровососущих комаров. Зимой же глубокий снег мешал подойти к дереву с нужной стороны, в глубоком снегу застревали санки, на которых мы подтягивали хлысты к разделочным площадкам. Бедная худая лошадка затравленно дергалась, от нее валил пар, гнилая веревочная сбруя рвалась, санки опрокидывались, мы надрывно матюгались (пригодились уроки Кулакова!), от нас тоже валил пар, как будто мы только вышли из бани, но лицо и руки мерзли и обмораживались...
Время в юности проходит быстро, и вот уже закончен седьмой класс и для продолжения образования надо ехать в столицу области — Киров. Мама осталась жить на дачах облисполкома и работать в колхозе “Динамо”, а меня в Кирове приютила русская семья в составе деда, дочери и снохи, зятяинвалида и трех внуков примерно моего возраста. Два сына были на фронте. Очевидно, мама им что-то платила за мое проживание, но никакие деньги не могли оплатить то тепло, которым окружила эта семья меня — совершенно чужого им, да еще иностранца (уж не шпиона ли?). Хромой зять работал на хлебозаводе, куда он иногда трудоустраивал меня — после школы, в ночной смене я занимался всякими подсобными работами (как говорится — “побольше взять, подальше бросить”). Работа на хлебозаводе была прекрасна тем, что можно было время от времени съесть кусок теплого, только что выпеченного хлеба, что было далеко не лишним при пайке 200 граммов хлеба в сутки.
Иногда я нанимался на спиртзавод на разовую работу — таскать мешки е зерном. Работа тяжеленная... Мы, мальчишки, таскали один мешок вдвоем на носилках. Самому поднять мешок было, конечно, не под силу. Но после смены, без всякой бюрократии, в качестве оплаты каждому выдавали чекушку водки — продукцию завода. Мы, вроде как полставочники, получали чекушку на двоих. Тут же шли на рынок, где можно было обменять ее на буханку хлеба или на килограмм картошки. Одним из самых потрясающих моих воспоминаний стал случай, когда после удачного обмена мы попросили продавшего буханку мужика разрезать ее пополам (нас же было двое!). Он достал из-за голенищй нож и аккуратно посередине разрезал буханку черного хлеба. Оказалось, что в буханке запечена мышь и разрез пришелся как раз посередине. Зрелище было отвратное. Мужик с бутылкой немедленно исчез. Мы с напарником тщательно выковыряли свои половинки мышей и тоскливо разошлись по домам. Дома хлеб съели с аппетитом. Ели мы пару раз картофельные очистки, тщательно вымытые и поджаренные на воде.
Вообще убедился я, что с голодухи можно съесть все что угодно. Однажды моя сестра Наташа (она работала в Москве, в Приемной Президиума Верховного Совета СССР) прислала мне посылку, в которой была банка с малиновым вареньем. В пути банка разбилась. Я выбрал наиболее крупные осколки, видимые невооруженным глазом, а варенье вместе с оставшимся стекляным крошевом съел...
Поэтому когда я через много лет прочел в одном из рубаи Омара Хайяма “...ты лучше голодай, чем что попало есть”, то подумал, что великий поэт, очевидно, никогда не голодал.
Еще одно тяжелое воспоминание, правда, уже не гастрономического плана. Однажды зимой, идя из школы на работу, я увидел на набережной реки Вятки толпу народа. Естественно, я побежал туда и протиснулся вперед. На берегу реки два милиционера стояли около большой глыбы прозрачного льда. В глыбу была вморожена скрюченная фигура красноармейца в шинели, в буденновке. Очевидно, он еще осенью утонул (или его утопили)... Жуткое зрелище.
Школы в те годы были раздельные мужские и женские, и поэтому нас в классе было пять человек парней и больше никого. Своих однокашников я помню очень хорошо: высокого, худого, лохматого интеллектуала Юру, невысокого роста, но плотно сбитого, делового и самого практичного из нас Жана, маленького, коротко стриженного, в огромных галошах и слишком просторном пальто, умненького Сему и Сашу, моего “земляка”, из русских латышей, с которым мы вместе жили на дачах облисполкома и вместе ходили в Кстининскую школу.
Учителей в Кстинине и Кирове, как и во Франции, я, к сожалению, не запомнил ни одного. В коридоре школы висела карта Европейской части СССР с воткнутыми флажками, обозначающими линию фронта. С тоской и страхом смотрели мы, как флажки продвигаются на восток. И в газетах мы умели читать между строк и, еще до официального заявления, догадывались, какой очередной город оставлен Красной Армией.
А вообще жизнь текла довольно уныло. Разнообразили ее мелкие происшествия: украли у меня кошелек с хлебными карточками (к счастью, это случилось за три дня до конца месяца — иначе обернулось бы трагедией), в городе появились офицеры в погонах (в Красной Армии ввели новую форму и новые командирские звания), что вызвало всеобщий интерес, оханье и аханье; милиционеров одели в форму царских городовых — черные шинели с красным кантом — что также вызвало оханье, аханье и некоторое недоумение...
Тем временем исполнилось мне шестнадцать лет и пошел я получать паспорт. У меня не было свидетельства о рождении, а была справка, выданная Главным Управлением кадров РККА в том, что я, Всеволод Янович Биркенфельд, родился 5 апреля 1927 г. в Риме. И точка. Представляете? С этой справкой я долго ходил по коридорам областного управления милиции из кабинета в кабинет, пока какой-то усатый дяденька не махнул рукой — “выдать ему паспорт” (получил я, правда, временное удостоверение, но и то хорошо. Думаю, что в нынешнее время я бы так легко не отделался). Девица, заполнявшая бланк паспорта, недоуменно подняла на меня глаза: “Рим — это в какой области?”
— “В Папской”, — брякнул я. Она так и записала и потом меня снова вызывали и долго ругали за испорченный бланк.
Вскоре Наташа вызвала нас в Москву, и на этом закончился целый период моей жизни. Оглядываясь сейчас назад, с высоты прожитых лет, я понимаю, что жизнь была тяжелая и тоскливая. Но с бездумностью ранней юности я все воспринимал беззаботно, и в моей памяти это время осталось если и не сияющим, то, по крайней мере, вполне приемлемым.
В Москве я поступил в девятый класс первой московской спецшколы ВВС. Были тогда такие спецшколы трех родов войск — военно-воздушных сил, танковых войск и артиллерии, куда поступали после седьмого класса обычной школы мальчики, имеющие склонность к военному делу (а какой мальчик не имеет этой склонности?). Учащиеся этих школ носили военную форму и наравне с программой обычной школы получали какие-то элементы знаний по указанным военным специальностям. Окончив спецшколу, поступали в соответствующее военное училище. Почему я поступил в школу ВВС — не знаю. Вероятно, на то были веские причины, но я их напрочь забыл. Вообще-то я всю свою (недолгую еще тогда) жизнь мечтал быть моряком, и не просто моряком, а штурманом дальнего плавания. Возможно, за неимением возможности учиться на моряка я решил, что воздушный океан будет в какой-то мере заменой океану водному. Возможно, меня прельстила форма. Вообще с формой мы, “спецы”, творили чудеса. Нам полагалось носить простую авиационную фуражку с голубым околышем и со звездой, но без герба СССР и авиационных крылышек (в “спецовской” среде называемых соответственно “капустой” и “курицей”). Но без “капусты” и “курицы” фуражка выглядела нищенской и не отличалась (разве что цветом околыша) от фуражек “фитилей” (учеников артиллерийских спецшкол) и “жестянщиков” (танкистов). Поэтому все уважающие себя “спецы” (за исключением отличников-активистов) носили настоящие авиационные фуражки. Но так как это было чревато (“одет не по форме”), то народными умельцами была разработана нехитрая конструкция из проволоки, которая позволяла за полсекунды одной рукой снять с фуражки запретные эмблемы и предстать перед встретившимся патрулем девственно чистым.
Жизнь в “спецухе” текла довольно однообразно. Знаний по авиации нам практически не давали, но ежедневно усиленно муштровали. Объясняли это не только специальным профилем учебного заведения, но и тем, что в Москву собирался приехать генерал де Голль и, по слухам, было намечено посещение нашей школы. Конечно, мы не могли ударить в грязь лицом перед прославленным генералом и часами маршировали гусиным (виноват, строевым) шагом по школьному плацу. Я никогда не мог освоить эту нехитрую гимнастику и своей нескладной сутулой фигурой портил весь строй, о чем нелицеприятно и громогласно извещал командир роты. Но втайне я злорадно думал: “Ладно, ладно.!. Вот когда приедет генерал и окажется, что во всей школе, кроме меня, никто не говорит по-французски, мне поручат выступить с приветствием генералу на его родном языке...” Разумеется, никто ничего мне не поручил, к тому же и генерал к нам не приехал (возможно, у него были более важные дела).
С моей учебой в первой московской спецшколе ВВС связан один забавный случай. Как-то на уроке литературы было задано сочинение на тему “Любимые литературные герои”. Естественно, большинство голосов получил Павка Корчагин, затем шли герои Фурманова, Семен Давыдов и подобные им борцы за советскую власть. Эффект разорвавшейся бомбы произвело мое сочинение о том, что моими любимы
ми литературными героями являются Джеймс Картон из романа Диккенса “Повесть о двух городах” (которую никто не читал, включая учителя литературы) и небезызвестный Остап Бендер. Эта сенсация имела следствием комсомольское собрание, на котором мои товарищи постановили исключить меня из рядов ВЛКСМ, но после эмоционального выступления моего друга групкомсорга Ильи и моего бурного раскаяния сменили гнев на милость и заменили исключение строгим выговором с занесением в личное дело.
Моим другом в “спецухе” был Илья, такой же долговязый и нескладный романтик, влюбленный в море, как и я. Мы сразу почуяли друг в друге родственные души. И благодаря его темпераментному и аргументированному выступлению меня и помиловали на том бурном комсомольском собрании.
Тем временем кончилась война. Девятого мая я в ликующей толпе на Красной площади, раздирая рот в криках “ура!”, наблюдал за грандиозным фейерверком. Сейчас, пятьдесят с лишним лет после после Победы, делаются некоторые попытки переосмыслить значение войны. Слова Великая Отечественная берутся в кавычки (еще чуть-чуть и будут писать “так называемая”). Писали, что Сталин заказал Александрову и Лебедеву-Кумачу песню “Священная война” еще за месяц до начала войны, что знаменитый плакат Тоидзе “Родина-мать зовет!” был заказан, отпечатан и разослан в войска в секретных пакетах за полгода до начала войны, и тому подобное. Возможно, так оно все и было. Но мне жаль того чувства единения, того чувства патриотической солидарности, побуждавшего всех нас, надрываясь, вместе тянуть тяжеленный воз Победы, и меня до сих пор пробирает дрожь, когда я слышу: “Вставай, страна огромная!” Конечно, я не воевал ни на фронте, ни в партизанах. Я также не точил снаряды на оборонном заводе (встав на ящик, чтобы дотянуться до рукояток станка). Но почему же все-таки я чувствовал свою общность с этим народом (хотя вроде и был изгоем), почему так остро переживал фронтовые поражения и успехи, почему в День Победы меня осенило чувство огромного, ни с чем не сравнимого облегчения? Мне скажут, что меня одурманила бронебойная пропаганда, и советский народ вовсе не был таким единым, как мне представлялось. Возможно. Сейчас приходится расставаться со многими иллюзиями, часто с болью..
Но я отвлекся.
Окончив школу с неплохими отметками в аттестате, я послал документы в приемную комиссию Ленинградского высшего мореходного училища и, к великой моей радости, получил вызов.
Поезд Москва-Ленинград (не “Красная стрела”) был набит людьми сверх всяких возможностей, как, впрочем, и все поезда в тот тяжелый первый послевоенный год. Место мне нашлось только на багажной боковой полке, а поскольку она очень узкая, то я привязался ремнем к трубе отопления, чтобы не свалиться, и все полтора сугок, что поезд полз, останавливаясь, как собака, у каждого столба, я лежал в
жаркой смрадной духоте, спускаясь оттуда только по нужде, и предавался эйфории, видя себя штурманом дальнего плавания с трубкой в зубах, на мостике, с продубленной всеми ветрами и просоленной брызгами всех океанов кожей... Ах, мечты, мечты! Забегая опять-таки вперед, отмечу, что от всех мечтаний осталась одна трубка, которую я несколько лет курил, будучи уже взрослым. Приемные
экзамены я сдал на все пятерки и — невыразимый восторг!
— прочитал свою славную фамилию в списке принятых на первый
курс судоводительского факультета ЛВМУ.
Приемные
экзамены я сдал на все пятерки и — невыразимый восторг!
— прочитал свою славную фамилию в списке принятых на первый
курс судоводительского факультета ЛВМУ.
Первые дни прошли в каком-то восторженном чаду... Одно только получение формы в каптерке чего стоило! Каптерка — это тривиальный вещевой склад, но надо было сразу привыкать к морским назва
ниям: лестница — трап, комната в общежитии — кубрик, ватеризвините, клозет — галыон. Ах, как сладко звучали эти слова! И ничего, что выданная мне бескозырка была на два размера больше, чем надо, и вместо того, чтобы лихо сидеть на затылке, съезжала на уши. Как сладки были первые дни, когда, распределившись по койкам, мы по вечерам в кубрике обсуждали наше будущее (а кубрик был большой — коек на двадцать). Мой друг Илья тоже поступил в ЛВМУ, но на судомеханический факультет (он был близорук и, естественно, его в училище — в морское! — не приняли бы. Поэтому когда мы проходили медицинскую комиссию, я пошел к окулисту вместо него, переклеив фотографию в приемной карточке. Но поступать на штурмана он все-таки не решился, а что касается механика, то механик (“дед”) может быть и в очках. Так он думал. Но ошибся, и через год его-таки попросили покинуть ЛВМУ). Илья и раньше, в спецшколе, писал стихи. Но тут его просто прорвало... Что за стихи! Вслушайтесь:
Этот обычай мне очень понравился, и я решил ему последовать, хотя я и не исландец. Так как я ничего другого не умею, я написал
свою биографию. И именно с этой целью — подарить книжку своим близким. А потом в гордыне своей подумал — а вдруг кому-нибудь будет интересна моя точка зрения, точка зрения свидетеля и участника событий далеких и не столь далеких. И я решился отдать на суд читателя этот небольшой опус — итог одной жизни.
“Я родился 5 апреля 1927 г. в Риме (Италия). Родители мои работали за границей, в аппарате Наркомата иностранных дел СССР, поэтому я до 1928 г. жил в Риме, а с 1928 по 1938 г. во Франции, в Париже...”
Так, одними и теми же словами, начинал я все свои автобиографии, вручаемые в отделы кадров за пятьдесят три года жизни в СССР. И при этом лгал, хотя долго сам не знал об этом. Дело в том, что мои родители вовсе не были служащими Наркомата иностранных дел. Отец мой, полковник Красной Армии, служил в Главном разведывательном управлении РККА, иными словами, был шпионом, или, выражаясь возвышенным слогом, — разведчиком. Мама при нем — шифровальщицей. Но об этом я узнал много позже, году в 1970-м, а до этого действительно полагал, что мои родители работали в посольстве. По странному недомыслию, я за все эти годы ни разу не задался вопросом — а почему, собственно говоря, во Франции у нашей семьи была другая фамилия и почему мы в семье говорили по-французски, а не по-русски, и почему я до самого приезда в СССР был уверен, что мы — канадцы и уезжаем на родину — в Квебек.
Но я забежал вперед... Итак, детство в прекрасном городе Париже, в обеспеченной семье канадского коммерсанта средней руки (таким, по легенде, был мой отец). В памяти остались красочные обрывки ~ Люксембургский сад, круглый бассейн с фонтаном, а в бассейне плывут разноцветные кораблики, яркое солнце в голубом небе, зеленые деревья, пестрые цветы, широкие асфальтовые аллеи парка Ла-Мюэтт, отданные в полное распоряжение визжащей толпы детей на роликовых коньках.
От школы остались весьма смутные воспоминания — первые два
года в чопорном и чинном лицее, где пятью классами старше училась моя сестра Матильда (а по-настоящему Наташа), а затем в довольно разболтанной коммунальной школе. Учителей я не запомнил (далеко мне, к сожалению, до примерных детей, на всю оставшуюся жизнь запомнивших любимых учителей). Из товарищей помню только необычайно толстого Леона. Бедняга страдал неправильным обменом веществ и из-за своей карикатурной полноты подвергался жестоким насмешкам. Однако при этом он неизменно сохранял благодушие и доброжелательность, что меня в нем и пленяло. Пожалуй, он был единственным моим другом.
Ярко помню также строгое внушение, сделанное мне отцом, когда было мне, кажется, лет десять. А провинность моя заключалась в том, что, тривиально разбив окно мячом во время переменки, я не сознался в этом поступке, но был изобличен и наказан — оставлен на несколько часов после уроков за переписыванием латинских изречений. (Был такой вид наказания во французских лицеях того времени. Возможно, существует и сейчас. Должен признаться, что оно, это наказание, весьма способствует запоминанию латинских изречений.) О моем проступке было, естественно, сообщено родителям, и отец меня достаточно жестко отчитал — не за проступок, а за то, что я соврал, убоявшись наказания. Урок я запомнил, и хотя не стал в жизни меньше лгать, но, по крайней мере, никогда больше не уходил от ответственности за свои поступки.
Дружили мы с семьей русских эмигрантов Сопруновых. Глава семьи — инженер Федор Прокофьевич — был в моих глазах воплощением русского казака (“cosaque”), какими они сложились в моем воображении: невысокого роста, тучный, с румяным (весьма румяным) лицом, пышными, густыми усами — я так и ждал, что он пустится вприсядку. Жена — Марья Николаевна — тоже выглядела эффектно с косой, уложенной короной на голове. В их доме я отведал много диковинных блюд со странными названиями: borchtch, kvass, shproti...
Было у них два сына — Тодик и Алик (т.е. Федор и Александр), чуть постарше моей сестры, которые меня, мелюзгу, естественно, не удостаивали своим вниманием. Мне же безумно нравилось быть в их комнате: разделенная пополам незримой чертой, она воплощала территорию, в которой сосуществовали различные, трудно совместимые интересы. Половина Алика — спортивного крепыша — была увешана боксерскими перчатками, гантелями и неизвестными мне, но от этого не менее интересными разновидностями спортивного снаряжения. Половина Тодика — задумчивого книгочея — была в живописном беспорядке завалена пыльными фолиантами, картинами без рам. Венцом этого пиршества интеллекта был висевший в углу человеческий скелет — доказательство принадлежности Тодика к братству студентовмедиков Сорбонны. На общей для обоих владельцев стене висела черная школьная доска, на которой мне разрешалось рисовать цветными мелками.
Когда мы приходили в гости к Сопруновым, то обычный расклад был такой: родители беседовали в гостиной, Тодик с Матильдой, которые питали друг к другу нежные чувства, уходили гулять, Алик исчезал неизвестно куда, я же мог часами балдеть от блаженства в этой изумительной комнате.
Итак, в октябре 1938 года мы решили вернуться на родину, в Канаду. Несколько недель длилась суета с упаковкой вещей, дюжие грузчики разбирали мебель и заколачивали ее в ящики (контейнеров в то время еще не знали), и в один прекрасный день мы поездом поехали в Гавр. Там мы сели на пароход “Феликс Дзержинский” под красным флагом, что меня несколько удивило, но не более того. Северное и Балтийское моря сильно штормило, и переход оставил во мне крайне тягостное воспоминание беспрерывной тошноты и головокружения. Поэтому по прибытии я вяло поинтересовался — “Это Монреаль?”, и ответ отца — “Нет, это Ленинград, мы приехали в Советский Союз”, — оставил меня равнодушным. Я был рад, что наконец кончилась качка. На следующий день мы поездом поехали в Москву, остановились в гостинице “Метрополь”, и в тот же день отец был арестован. То есть утром он ушел и больше не вернулся. Вместо него пришли какие-то люди в военной форме и стали рыться в чемоданах, выкидывая оттуда на пол все содержимое. Я с гордостью носил на поясе подаренный мне отцом игрушечный финский нож величиной с мизинец. Бдительный энкаведист узрел его и, несмотря на мои бурные протесты, отобрал. Много позже я узнал, что его квалифицировали как холодное оружие. На следующий день нас из “Метрополя” выкинули и привезли на окраину Москвы, в село Богородское, в дом, где селили семьи арестованных “врагов народа”, прибывших из-за рубежа.
Таким вот образом кончилось мое беззаботное, счастливое детство и началась моя советская жизнь с клеймом “сына врага народа”.
Пошел я в рядовую московскую школу, в тот же пятый класс, который посещал в Париже. Учитывая то, что я не знал ни одного русского слова, мне пришлось осваивать язык методом, которым щенок, брошенный в воду, осваивает плавание. К счастью, я был в классе не единственной белой вороной. Мы сидели за одной партой с моим другом Ульрихом, приехавшим из Австрии. Объяснялись мы с ним на смеси французского, немецкого и английского и хорошо понимали друг друга. В основном потому, что все школьные переменки мы проводили стоя спиной к спине и отбиваясь от своры мальчишек, пышущих ненавистью к “иностранным шпионам”. Били нас жестоко, в кровь, и проходящие мимо учителя деликатно отворачивались. Впрочем, был у меня приятель из русских, по фамилии Кулаков, который учил меня русскому языку (в основном матерному) в обмен на последние остатки французских игрушек и безделушек. Через полгода я уже сносно говорил по-русски, через год перешел в следующий класс.
Наступил 1940 год и трудящийся народ Латвии (равно как и Эстонии и Литвы) с огромным энтузиазмом присоединил свою страну к Советскому Союзу. А из Латвии, между прочим, родом мой отец, и с установлением советской власти в Латвии из заключения была освобождена его сестра Мильда, коммунист-подпольщик с большим стажем, и избрана первым секретарем Екабпилсского уездного комитета партии. Мильда тут же разыскала нас в Москве и стала бурно хлопотать о пересмотре отцовского дела (забегая вперед, скажу, что, несмотря на все ее заслуги, хлопоты ни к чему не привели, и отец вернулся только спустя двенадцать лет, проведенных в лагере на Колыме). Разыскав нас, тетя тут же забрала меня к себе в Екабпилс, чтобы немножко подкормить, ибо жили мы голодновато, распродавая немногие французские вещи, оставшиеся от конфискации, так как маму, естественно, никуда на работу не брали. Пробивались мы также случайными заработками — например, я помню, как мы выполняли заказ какой-то артели на изготовление первомайских флажков, втроем сидели с утра до вечера, вырезали из ленты эти флажки и приклеивали к древкам. Платили, как я понимаю, за эту работу копейки. Правда, тогда и жизнь была дешевой.
Таким образом, в начале 1941 года я попал в Латвию. Рига живо мне напомнила Париж, особенно по контрасту с Москвой. Я гордо ходил по улицам в красном пионерском галстуке, чеканя шаг (галстук я носил самозванно, ибо никто меня в пионеры не принимал, но я чувствовал необходимость достойно представлять Советскую Власть в новой Республике. Не забывайте, что моя тетя была убежденным коммунистом).
22 июня началась война, и в большой суматохе тетя Мильда посадила меня на поезд, уходивший в Россию 24 июня, за два дня до падения Риги. Наш эшелон с семьями латышских советских активистов направлялся в Кировскую область (бывшую и нынешнюю Вятку), шел тяжело, медленно, извилисто, через Горький, Арзамас, Куйбышев, уступая дорогу встречным эшелонам с солдатами и оружием и обгоняющим эшелонам с оборудованием демонтированных заводов. Однажды мы попали под бомбежку, но, к счастью, обошлось без жертв. Я смутно помню эту поездку и не сумею ответить, на что я жил. Должно быть, кормили меня добрые соседи по купе, чьим заботам поручила меня тетя Мильда. Так же смутно и абсолютно нечетко в моей памяти остались приезд в Киров и переезд на так называемые “дачи облисполкома” — летние домики руководителей области, расположенные в живописном лесу километрах в сорока от города и отданные в распоряжение латвийской колонии.
Начали мы жить на природе и ходить в школу-семилетку за семь километров в ближайшее село Кстинино. (Рядом с нами была деревня с классическим названием Голодница, но там не было школы.)
Летом было великолепно. Я нанимался на всякую временную работу в колхозе деревни Голодница (колхоз назывался “Динамо”). От пахоты осталась в памяти безмерная усталость, сведенные руки и ноги и бесконечно, до головокружения, разворачивающаяся в моем мозгу панорама борозды. От ночной пастьбы осталось восхитительное, ни с чем не сравнимое ощущение езды галопом (да еще без седла, “охлюпкой”, с одной веревочной уздечкой в руках). От метания сена в копны разбитое от усталости тело было покрыто липким потом с сенной трухой. С каким наслаждением после работы мы бежали к речке, срывая на ходу трусы и майки, и без остановки сигали с обрыва в благословенную прохладную воду.
Из событий тех лет, оставивших глубокий след в моей памяти, помню пожар — сгорела изба Народного писателя Андрея Упита. Маленький деревянный домик вспыхнул как солома и очень быстро выгорел дотла. Произошло это ясным летним вечером, и вещи вынести не успели. Народный писатель стоял неподвижно в стороне с каменным лицом, седая супруга его металась рядом, всплескивая руками, а внук Айвар возбужденно бегал вокруг горящего дома. Остальные члены колонии пытались что-то делать, довольно бестолково и суетливо бегали с ведрами (пруд находился метрах в трехстах от пожара), но сделать ничего не удалось, и через полчаса от дома осталась куча дымящихся головешек.
Одним из заметных людей нашей колонии был профессор Кирхенштейн, первый Председатель Верховного Совета Советской Латвии. Я его хорошо запомнил, потому что у него был тонкий писклявый голос (говорили, что у него в горло вставлена серебряная трубка). Он
считал панацеей от всех бед витамины и угощал нас, детей, сладкими таблетками витамина С, чем завоевал нашу безграничную любовь.
Весело отпраздновали Лиго. Взрослые пили пиво и жгли костры, молодежь парами прыгала через эти костры, дети с криками бегали взад-вперед и тоже пытались прыгать через костры, их отгоняли оплеухами. Один из нас, Павлик, умудрился-таки перемахнуть через костер, но неудачно приземлился и сломал ногу. Это событие, равно как и последующее трехмесячное ковыляние на костылях с ногою в гипсе, сделало его в наших глазах героем. Впоследствии он стал довольно известным художником в Латвии.
Словом, летом было хорошо. Зато зимой... Зима 1941-1942 года была лютой. Морозы стояли под 40 градусов, вьюги, метели... Одет я был плохонько — брюки, ботинки, ватник. Спасали в какой-то мере газеты, которые я обматывал вокруг туловища и запихивал в ботинки, но все равно мерз нещадно, и на всю жизнь у меня остались обмороженные руки и ненависть к холоду. Дорога в школу шла частью лесом, частью полем. В поле ветер хлестал нещадно, а в лесу, в темноте, было страшно. В школе тоже было нежарко — чернила замерзали в чернильницах-непроливайках.
Время от времени я прерывал занятия в школе и для заработка работал . в лесу, заготавливая чурки для автомобилей. Маленькое отступление: так как нефть в огромном количестве была нужна армии, все автомобили в тылу (и грузовые, и легковые) были переоборудованы на газогенераторые двигатели. Сбоку кабины был установлен котел метра полтора высотой и полметра в диаметре, топился он деревянными чурками. Газ от сгорания поступал в двигатель. Маленьких этих чурок для автомобильного парка страны требовалось ошеломляющее количество, и в бескрайних русских лесах десятки тысяч людей безостановочно валили, пилили и кололи деревья. Там-то я и приобрел квалификацию лесоруба, научился с наименьшим расходом физических сил, грамотно валить деревья, очищать их от сучьев и раскалывать на чурки. Работали мы парами, и за сутки вдвоем надо было заготовить три кубометра чурок, что требовало крайнего напряжения (мотопил тогда, конечно, не было) и абсолютно не оставляло времени на перекуры (к счастью, я тогда и не курил). Летом опять-таки все было неплохо, если только не считать туч кровососущих комаров. Зимой же глубокий снег мешал подойти к дереву с нужной стороны, в глубоком снегу застревали санки, на которых мы подтягивали хлысты к разделочным площадкам. Бедная худая лошадка затравленно дергалась, от нее валил пар, гнилая веревочная сбруя рвалась, санки опрокидывались, мы надрывно матюгались (пригодились уроки Кулакова!), от нас тоже валил пар, как будто мы только вышли из бани, но лицо и руки мерзли и обмораживались...
Время в юности проходит быстро, и вот уже закончен седьмой класс и для продолжения образования надо ехать в столицу области — Киров. Мама осталась жить на дачах облисполкома и работать в колхозе “Динамо”, а меня в Кирове приютила русская семья в составе деда, дочери и снохи, зятяинвалида и трех внуков примерно моего возраста. Два сына были на фронте. Очевидно, мама им что-то платила за мое проживание, но никакие деньги не могли оплатить то тепло, которым окружила эта семья меня — совершенно чужого им, да еще иностранца (уж не шпиона ли?). Хромой зять работал на хлебозаводе, куда он иногда трудоустраивал меня — после школы, в ночной смене я занимался всякими подсобными работами (как говорится — “побольше взять, подальше бросить”). Работа на хлебозаводе была прекрасна тем, что можно было время от времени съесть кусок теплого, только что выпеченного хлеба, что было далеко не лишним при пайке 200 граммов хлеба в сутки.
Иногда я нанимался на спиртзавод на разовую работу — таскать мешки е зерном. Работа тяжеленная... Мы, мальчишки, таскали один мешок вдвоем на носилках. Самому поднять мешок было, конечно, не под силу. Но после смены, без всякой бюрократии, в качестве оплаты каждому выдавали чекушку водки — продукцию завода. Мы, вроде как полставочники, получали чекушку на двоих. Тут же шли на рынок, где можно было обменять ее на буханку хлеба или на килограмм картошки. Одним из самых потрясающих моих воспоминаний стал случай, когда после удачного обмена мы попросили продавшего буханку мужика разрезать ее пополам (нас же было двое!). Он достал из-за голенищй нож и аккуратно посередине разрезал буханку черного хлеба. Оказалось, что в буханке запечена мышь и разрез пришелся как раз посередине. Зрелище было отвратное. Мужик с бутылкой немедленно исчез. Мы с напарником тщательно выковыряли свои половинки мышей и тоскливо разошлись по домам. Дома хлеб съели с аппетитом. Ели мы пару раз картофельные очистки, тщательно вымытые и поджаренные на воде.
Вообще убедился я, что с голодухи можно съесть все что угодно. Однажды моя сестра Наташа (она работала в Москве, в Приемной Президиума Верховного Совета СССР) прислала мне посылку, в которой была банка с малиновым вареньем. В пути банка разбилась. Я выбрал наиболее крупные осколки, видимые невооруженным глазом, а варенье вместе с оставшимся стекляным крошевом съел...
Поэтому когда я через много лет прочел в одном из рубаи Омара Хайяма “...ты лучше голодай, чем что попало есть”, то подумал, что великий поэт, очевидно, никогда не голодал.
Еще одно тяжелое воспоминание, правда, уже не гастрономического плана. Однажды зимой, идя из школы на работу, я увидел на набережной реки Вятки толпу народа. Естественно, я побежал туда и протиснулся вперед. На берегу реки два милиционера стояли около большой глыбы прозрачного льда. В глыбу была вморожена скрюченная фигура красноармейца в шинели, в буденновке. Очевидно, он еще осенью утонул (или его утопили)... Жуткое зрелище.
Школы в те годы были раздельные мужские и женские, и поэтому нас в классе было пять человек парней и больше никого. Своих однокашников я помню очень хорошо: высокого, худого, лохматого интеллектуала Юру, невысокого роста, но плотно сбитого, делового и самого практичного из нас Жана, маленького, коротко стриженного, в огромных галошах и слишком просторном пальто, умненького Сему и Сашу, моего “земляка”, из русских латышей, с которым мы вместе жили на дачах облисполкома и вместе ходили в Кстининскую школу.
Учителей в Кстинине и Кирове, как и во Франции, я, к сожалению, не запомнил ни одного. В коридоре школы висела карта Европейской части СССР с воткнутыми флажками, обозначающими линию фронта. С тоской и страхом смотрели мы, как флажки продвигаются на восток. И в газетах мы умели читать между строк и, еще до официального заявления, догадывались, какой очередной город оставлен Красной Армией.
А вообще жизнь текла довольно уныло. Разнообразили ее мелкие происшествия: украли у меня кошелек с хлебными карточками (к счастью, это случилось за три дня до конца месяца — иначе обернулось бы трагедией), в городе появились офицеры в погонах (в Красной Армии ввели новую форму и новые командирские звания), что вызвало всеобщий интерес, оханье и аханье; милиционеров одели в форму царских городовых — черные шинели с красным кантом — что также вызвало оханье, аханье и некоторое недоумение...
Тем временем исполнилось мне шестнадцать лет и пошел я получать паспорт. У меня не было свидетельства о рождении, а была справка, выданная Главным Управлением кадров РККА в том, что я, Всеволод Янович Биркенфельд, родился 5 апреля 1927 г. в Риме. И точка. Представляете? С этой справкой я долго ходил по коридорам областного управления милиции из кабинета в кабинет, пока какой-то усатый дяденька не махнул рукой — “выдать ему паспорт” (получил я, правда, временное удостоверение, но и то хорошо. Думаю, что в нынешнее время я бы так легко не отделался). Девица, заполнявшая бланк паспорта, недоуменно подняла на меня глаза: “Рим — это в какой области?”
— “В Папской”, — брякнул я. Она так и записала и потом меня снова вызывали и долго ругали за испорченный бланк.
Вскоре Наташа вызвала нас в Москву, и на этом закончился целый период моей жизни. Оглядываясь сейчас назад, с высоты прожитых лет, я понимаю, что жизнь была тяжелая и тоскливая. Но с бездумностью ранней юности я все воспринимал беззаботно, и в моей памяти это время осталось если и не сияющим, то, по крайней мере, вполне приемлемым.
В Москве я поступил в девятый класс первой московской спецшколы ВВС. Были тогда такие спецшколы трех родов войск — военно-воздушных сил, танковых войск и артиллерии, куда поступали после седьмого класса обычной школы мальчики, имеющие склонность к военному делу (а какой мальчик не имеет этой склонности?). Учащиеся этих школ носили военную форму и наравне с программой обычной школы получали какие-то элементы знаний по указанным военным специальностям. Окончив спецшколу, поступали в соответствующее военное училище. Почему я поступил в школу ВВС — не знаю. Вероятно, на то были веские причины, но я их напрочь забыл. Вообще-то я всю свою (недолгую еще тогда) жизнь мечтал быть моряком, и не просто моряком, а штурманом дальнего плавания. Возможно, за неимением возможности учиться на моряка я решил, что воздушный океан будет в какой-то мере заменой океану водному. Возможно, меня прельстила форма. Вообще с формой мы, “спецы”, творили чудеса. Нам полагалось носить простую авиационную фуражку с голубым околышем и со звездой, но без герба СССР и авиационных крылышек (в “спецовской” среде называемых соответственно “капустой” и “курицей”). Но без “капусты” и “курицы” фуражка выглядела нищенской и не отличалась (разве что цветом околыша) от фуражек “фитилей” (учеников артиллерийских спецшкол) и “жестянщиков” (танкистов). Поэтому все уважающие себя “спецы” (за исключением отличников-активистов) носили настоящие авиационные фуражки. Но так как это было чревато (“одет не по форме”), то народными умельцами была разработана нехитрая конструкция из проволоки, которая позволяла за полсекунды одной рукой снять с фуражки запретные эмблемы и предстать перед встретившимся патрулем девственно чистым.
Жизнь в “спецухе” текла довольно однообразно. Знаний по авиации нам практически не давали, но ежедневно усиленно муштровали. Объясняли это не только специальным профилем учебного заведения, но и тем, что в Москву собирался приехать генерал де Голль и, по слухам, было намечено посещение нашей школы. Конечно, мы не могли ударить в грязь лицом перед прославленным генералом и часами маршировали гусиным (виноват, строевым) шагом по школьному плацу. Я никогда не мог освоить эту нехитрую гимнастику и своей нескладной сутулой фигурой портил весь строй, о чем нелицеприятно и громогласно извещал командир роты. Но втайне я злорадно думал: “Ладно, ладно.!. Вот когда приедет генерал и окажется, что во всей школе, кроме меня, никто не говорит по-французски, мне поручат выступить с приветствием генералу на его родном языке...” Разумеется, никто ничего мне не поручил, к тому же и генерал к нам не приехал (возможно, у него были более важные дела).
С моей учебой в первой московской спецшколе ВВС связан один забавный случай. Как-то на уроке литературы было задано сочинение на тему “Любимые литературные герои”. Естественно, большинство голосов получил Павка Корчагин, затем шли герои Фурманова, Семен Давыдов и подобные им борцы за советскую власть. Эффект разорвавшейся бомбы произвело мое сочинение о том, что моими любимы
ми литературными героями являются Джеймс Картон из романа Диккенса “Повесть о двух городах” (которую никто не читал, включая учителя литературы) и небезызвестный Остап Бендер. Эта сенсация имела следствием комсомольское собрание, на котором мои товарищи постановили исключить меня из рядов ВЛКСМ, но после эмоционального выступления моего друга групкомсорга Ильи и моего бурного раскаяния сменили гнев на милость и заменили исключение строгим выговором с занесением в личное дело.
Моим другом в “спецухе” был Илья, такой же долговязый и нескладный романтик, влюбленный в море, как и я. Мы сразу почуяли друг в друге родственные души. И благодаря его темпераментному и аргументированному выступлению меня и помиловали на том бурном комсомольском собрании.
Тем временем кончилась война. Девятого мая я в ликующей толпе на Красной площади, раздирая рот в криках “ура!”, наблюдал за грандиозным фейерверком. Сейчас, пятьдесят с лишним лет после после Победы, делаются некоторые попытки переосмыслить значение войны. Слова Великая Отечественная берутся в кавычки (еще чуть-чуть и будут писать “так называемая”). Писали, что Сталин заказал Александрову и Лебедеву-Кумачу песню “Священная война” еще за месяц до начала войны, что знаменитый плакат Тоидзе “Родина-мать зовет!” был заказан, отпечатан и разослан в войска в секретных пакетах за полгода до начала войны, и тому подобное. Возможно, так оно все и было. Но мне жаль того чувства единения, того чувства патриотической солидарности, побуждавшего всех нас, надрываясь, вместе тянуть тяжеленный воз Победы, и меня до сих пор пробирает дрожь, когда я слышу: “Вставай, страна огромная!” Конечно, я не воевал ни на фронте, ни в партизанах. Я также не точил снаряды на оборонном заводе (встав на ящик, чтобы дотянуться до рукояток станка). Но почему же все-таки я чувствовал свою общность с этим народом (хотя вроде и был изгоем), почему так остро переживал фронтовые поражения и успехи, почему в День Победы меня осенило чувство огромного, ни с чем не сравнимого облегчения? Мне скажут, что меня одурманила бронебойная пропаганда, и советский народ вовсе не был таким единым, как мне представлялось. Возможно. Сейчас приходится расставаться со многими иллюзиями, часто с болью..
Но я отвлекся.
Окончив школу с неплохими отметками в аттестате, я послал документы в приемную комиссию Ленинградского высшего мореходного училища и, к великой моей радости, получил вызов.
Поезд Москва-Ленинград (не “Красная стрела”) был набит людьми сверх всяких возможностей, как, впрочем, и все поезда в тот тяжелый первый послевоенный год. Место мне нашлось только на багажной боковой полке, а поскольку она очень узкая, то я привязался ремнем к трубе отопления, чтобы не свалиться, и все полтора сугок, что поезд полз, останавливаясь, как собака, у каждого столба, я лежал в
жаркой смрадной духоте, спускаясь оттуда только по нужде, и предавался эйфории, видя себя штурманом дальнего плавания с трубкой в зубах, на мостике, с продубленной всеми ветрами и просоленной брызгами всех океанов кожей... Ах, мечты, мечты! Забегая опять-таки вперед, отмечу, что от всех мечтаний осталась одна трубка, которую я несколько лет курил, будучи уже взрослым.
 Приемные
экзамены я сдал на все пятерки и — невыразимый восторг!
— прочитал свою славную фамилию в списке принятых на первый
курс судоводительского факультета ЛВМУ.
Приемные
экзамены я сдал на все пятерки и — невыразимый восторг!
— прочитал свою славную фамилию в списке принятых на первый
курс судоводительского факультета ЛВМУ.Первые дни прошли в каком-то восторженном чаду... Одно только получение формы в каптерке чего стоило! Каптерка — это тривиальный вещевой склад, но надо было сразу привыкать к морским назва
ниям: лестница — трап, комната в общежитии — кубрик, ватеризвините, клозет — галыон. Ах, как сладко звучали эти слова! И ничего, что выданная мне бескозырка была на два размера больше, чем надо, и вместо того, чтобы лихо сидеть на затылке, съезжала на уши. Как сладки были первые дни, когда, распределившись по койкам, мы по вечерам в кубрике обсуждали наше будущее (а кубрик был большой — коек на двадцать). Мой друг Илья тоже поступил в ЛВМУ, но на судомеханический факультет (он был близорук и, естественно, его в училище — в морское! — не приняли бы. Поэтому когда мы проходили медицинскую комиссию, я пошел к окулисту вместо него, переклеив фотографию в приемной карточке. Но поступать на штурмана он все-таки не решился, а что касается механика, то механик (“дед”) может быть и в очках. Так он думал. Но ошибся, и через год его-таки попросили покинуть ЛВМУ). Илья и раньше, в спецшколе, писал стихи. Но тут его просто прорвало... Что за стихи! Вслушайтесь:
Волна о чем-то за бортом
Ведет свой медленный рассказ.
Один на мостике пустом
Штурвальный не смыкает глаз...
Или:
В каюте тесной капитан
Сидит за рюмочкой малаги,
И весь Индийский океан
Он видит в капле этой влаги...
Или еще:
Тишина. Ни звука. Мертвый штиль.
До пролива Кука триста миль...
Ведет свой медленный рассказ.
Один на мостике пустом
Штурвальный не смыкает глаз...
Или:
В каюте тесной капитан
Сидит за рюмочкой малаги,
И весь Индийский океан
Он видит в капле этой влаги...
Или еще:
Тишина. Ни звука. Мертвый штиль.
До пролива Кука триста миль...
Чувствуете романтику моря? Я просто млел, когда Илья читал мне свои стихи...
До начала занятий оставалось две или три недели. Мы пока еще не были связаны жестким казарменным режимом, и все курсанты упоенно занимались одним и тем же делом — подгонкой и перешивкой формы. Ведь форма, которую нам выдали, была хоть и морской, но годилась разве что для салаг, а не для морских волков (достаточно сказать, что брюки даже не были расклешены!). В брюки надо было вшить по возможности более широкие клинья, форменку (называемую “фланель”) надо было, наоборот, ушить, чтобы она плотно обтягивала торс. Ленточки на бескозырке были, по нашему мнению, слишком коротки — их надо было нарастить до пояса или хотя бы до лопаток. Шинель, наоборот, надо было укоротить до колен. Предметом особых забот был гюйс — синий морской воротник. Как и полагается новенькому гюйсу, он был синего цвета и надлежало его как следует подержать в растворе хлора, чтобы он стал блекло-голубым, якобы выцветшим от соленой воды и тропического солнца. Ту же процедуру следовало проделать и с тельняшкой.
И вот вечерами мы обменивались адресами портных, ценами на швейные услуги и правилами техники безопасности при работе с хлорными растворами. Наши изыски в области “haute couture” не поощрялись взводными и ротными командирами, а также военными патрулями в городе. Но командиры устали воевать с нами и махнули рукой — в конце концов училище наше было не военным, а гражданским. То же и патрули — задержав нас и убедившись в отсутствии погон, тут же отпускали на все четыре стороны.
Наш кубрик и соседний составляли роту. Вместе мы строем шагали на занятия, в столовую, на самоподготовку, в баню (с узелком белья под мышкой), во все горло горланя забубенными голосами “Врагу не сда-е-е-е-тся наш гордый “Варяг”...” Только в увольнение в город отправлялись не строем, а по два-три человека. Я ходил в город с Ильей. Ходили мы на танцы в Кировский Дворец культуры, и хотя кавалеры из нас были никудышные, но ореол морской формы придавал нам куражу.
Первый семестр окончился без особых встрясок. Учился я хорошо, и первую сессию сдал всю на пятерки. Во втором семестре начался курс “морской практики”. Преподавал нам его не профессор в пенсне или подобный ему высоколобый интеллектуал, какие читали нам высшую математику, физику, химию и прочую “муть”, а седой отставной боцман (так, по крайней мере, нам хотелось думать). Эта наука изучала сугубо практические дела, относящиеся, в основном, к парусному флоту. Считается, что любой самый наисовременнейший моряк должен хорошо разбираться в парусном флоте. По кубрикам витали сладкие слухи, что первую мореходную практику будем проходить на фрегате, ну, в крайнем случае, не на фрегате, а на парусном барке (впоследствии оказалось, что слухи эти беспочвенны, и на первую практику курсанты отправились на маленьких пароходиках каботажного плавания, воняющих углем или мазутом).
Я с упоением вязал морские узлы и сладострастно шептал “крюйсбом-брам-реи, фор-трисель-эрнсбакштаги, марта н-гик” и просто “шкентеля брасов”... Иногда среди ночи я просыпался и вещал дурным голосом: “Бриг готов встретить шквал: бом-кивер и верхние паруса убраны, на марселях взяты все рифы, грот и триселя взяты на гитовы”.
Вот и второй семестр подошел к концу... Сданы на пятерку все экзамены, пройдена строжайшая медицинская комиссия (вот тут-то Илья и вылетел), заполнены листы огромных анкет (вплоть до вопросов о том, имела ли внебрачные связи ваша бабушка по материнской линии? А по отцовской?). Возбужденные и трепещущие, мы вечерами горячо обсуждали — куда пойдем на практику: в Гонолулу? В Тимбукту? Или в Вальпараисо? Но как я уже сказал, нас распределили по пароходикам каботажного плавания. Всех — кроме меня...
А меня вызвал к себе в кабинет заместитель начальника училища по кадрам. Ничего не предчувствуя, я явился и доложился по форме. Неприязненно оглядев меня, он в упор выстрелил: “Почему вы при поступлении скрыли, что ваш отец
— враг народа?” Челюсть у меня отвалилась, и я вяло промямлил, что в анкете, дескать, такого вопроса не было. “Ясно, — отчеканил
он. — Вы отчислены. Чтоб завтра же духу вашего здесь не было!”
Удар был силен, в поддых, и послал меня в нокдаун. Как в тумане я собирал свои вещички, расписался в приказе. Вечером мы с Ильей, в пустой квартире его старшего брата, распили бутылку портвейна за крушение нашей мечты.
Куда деваться? Моя сестра Наташа вышла замуж и уехала в Ашхабад (вышла она замуж за свою первую любовь — того самого отудента-медика из Сорбонны Федора Сопрунова. Как Федор попал в Москву, как нашел Наташу — это прекрасная приключенческая и суперромантическая история, которую сам Федор описал в своей книге “Своим путем” (М., “Молодая гвардия”, 1985). Там у них родился сын, и в Ашхабад, нянчить внука, перебралась мама. Из всей родни в европейской части страны осталась у меня лишь тетя Мильда, которая, проведя всю войну в партизанах в Латвии, снова была секретарем уездного комитета партии.
В Латвию я и поехал и поступил на второй курс механического факультета Латвийского государственного университета. Хотя механик из меня как, извините, из дерьма пуля — я не знал, с какой стороны подойти к электрической пробке. Так почему же мехфак? Вопервых, потому что я все еще пребывал в нокдауне и мне все было безразлично, и еще потому, что это был единственный факультет, где были вакансии на втором курсе. Причем русский поток учился во вторую смену, с 16 часов. Для меня это было очень удобно, так как, чтобы не висеть на шее у тети Мильды и ее семьи, я днем работал. Чем я только не занимался! Выгружал вагоны на товарной станции, крутил часами ручку веялки на “Заготзерне”, мыл посуду в ресторане... Были и совсем экзотические работы: например, в одном учреждении мне предложили оформить стенгазету. Поскольку это было моим постоянным комсомольским поручением еще со школьных времен, то я блестяще справился с этой задачей, и учреждение заключило со мной долгосрочный контракт — в течение года я каждый месяц рисовал им стенгазету “За здоровый быт” (это было какое-то жилищнокоммунальное учреждение).
Была с моей стороны попытка получить уж совсем своеобразную работу: я заметил, что развевающийся на радиомачте в центре Риги флаг Латвийской ССР заметно пообтрепался и порвался на ветру, и решил предложить свои услуги по его замене. Меня долго гоняли из конторы в контору, пока, наконец, в Радиокомитете какой-то компетентный чин, брезгливо оглядев меня, не сказал, что для этой работы у них есть квалифицированные верхолазы.
В конце концов этот калейдоскоп занятий мне поднадоел и я решил всерьез заняться своей будущей профессией. Для этого я поступил на завод “ВЭФ”. Не знал я тогда, что связываю свою судьбу с этим монстром на двадцать пять лет. Поскольку я в технике был абсолютный неуч, меня пытались посадить на конвейер, но я настоял, чтобы меня приняли учеником слесаря по ремонту оборудования.
Следующие два года прошли под знаком чудовищного недосыпа. В шесть утра я вставал и бежал на завод, где в течение семи часов самозабвенно крутил гайки, мыл керосином грязные, замасленные железяки, бил молотком по разным выступающим деталям, попутно лихо отбивая себе пальцы. В три часа скидывал халат, споласкивал руки растворителем и бежал в университет, перехватывал какую-то еду в студенческой морилке и шесть часов осоловело сидел за партой, бессмысленно глядя на “фиоритуры”, которые выводили на черной доске наши седовласые и лысые профессора. Не заснуть помогали мне бесчисленные щипки, от которых мои ноги опухли и стали синего цвета (и сейчас, спустя сорок лет, моя левая нога еще не вернулась к нормальным размерам и цвету). По вечерам иногда надо было еще делать контрольные и курсовые работы, но на это меня уже не хватало.
Итак, обремененный “хвостами”, я переваливал с курса на курс (в те блаженные времена за “хвосты” не лишали стипендии). Я научился стоя, как лошадь, спать в трамвае, держась за поручень (правда, лошади не ездят в трамвае, но это не умаляет моих достоинств). Бывало, засыпал сидя в столовой за тарелкой супа. С тех времен осталась у меня ненасытная любовь ко сну — я готов спать по двенадцать и четырнадцать часов в сутки. И когда я где-то прочитал, что Эйнштейн спал по три часа в сутки, то подумал — далеко мне до Эйнштейна!
Через полгода я сдал экзамен и получил третий, низший, разряд.
Правда, я продолжал отбивать себе пальцы, но, по крайней мере, узнал, с какого конца браться за молоток. Поскольку я был в бригаде младшим и по возрасту, и по стажу, то вся грязная работа попрежнему доставалась мне. Но вместе с тем, учитывая мой какой-никакой, а разряд, мне доверяли и более ответственную работу — заклепать чего-нибудь железного, подпилить или просверлить. Так понемногу я осваивал слесарную премудрость.
Но, конечно, все это были мелочи жизни. А жизнь была прекрасна и удивительна...
Время от времени на факультете устраивались совместные межфакультетские танцевальные вечера, а поскольку наш факультет был преимущественно мужским, мы с большим удовольствием устраивали совместные вечера с филологическим и историческим факультетами, где контингент был чисто девичий. Смешно вспомнить и, очевидно, трудно в это поверить, но мы не танцевали ни фокстрот, ни танго — эти танцы были для “гнилого буржуазного общества”. Разрешено было танцевать менуэт, котильон, па-де-патинер и тому подобную дребедень. Иногда разрешался вальс. Впрочем, мне это все было без разницы, потому что я танцевать не умел (и не умею до сих пор) и находил удовольствие в том, чтобы, подпирая стенку, лицезреть возбужденные лица студентов и особенно студенток.
Вот на этих вечерах я и заметил маленькую курносую историчку с серыми глазами и волнистыми волосами цвета спелой пшеницы по имени Люся. Увы! Она любила танцевать и на меня не обращала ни малейшего внимания. Однажды на улице я увидел ее у витрины цветочного магазина. Собрав в кулак всю свою храбрость, я подошел и заговорил. Проводил до дома. Затем в течение трех лет ухаживал. И теперь вот уже сорок четыре года мы делим все радости и горести этой не всегда веселой, но всегда увлекательной жизни (хотя тот цветочный магазин давно исчез и на месте снесенного квартала воздвигнута высотная гостиница).
Веселыми мероприятиями были праздничные демонстрации — народ радостно возбужден, заботы и печали отходят на второй план. На майских демонстрациях — солнце и весенний аромат в воздухе, на октябрьских всегда дождь (а то и снежная метель), но зато фляжки в карманах мужчин вносят столь необходимый элемент согревания и общения.
Я любил демонстрации — за праздничную суматоху, духовые оркестры, песни и веселое настроение. Но я не любил носить портреты вождей, потому что вместо того, чтобы, пройдя трибуны, сбежать по своим делам, приходилось возвращаться к месту сбора, чтобы сдать святую ношу.
Весело было и на комсомольских субботниках, где в основном занимались посадкой деревьев (и в Парке Победы, и на бывшей Эспланаде, ставшей Парком коммунаров, а через сорок пять лет вновь переименованной в Эспланаду). Так что по части посадки деревьев я свою жизненную норму выполнил. Во время комсомольских субботников на заводе мы расчищали территорию от взорванных немцами при отступлении корпусов. Впрочем, основную работу по восстановлению завода выполняли военнопленные, которых было очень много. Мне их было как-то жалко — худые, бледные и какие-то затравленные... В то же время я думал — так им и надо, врагам! Ведь сколько зла они сотворили!..
Тем временем я каким-то образом добрался до шестого курса и для сотворения и защиты дипломного проекта получил оплачиваемый академический отпуск сроком на полгода (вот были времена!). Тема моего проекта — цех по производству стиральных машин. Что и было мною выполнено на высоком теоретическом уровне (думаю, если бы кто-нибудь взялся построить цех по моему проекту, вряд ли бы чтонибудь получилось).
И была защита, и был торжественный выпуск. И получил я диплом инженера-механика по специальности “технология машиностроения”. За этой вехой последовали два торжественных события: я женился на курносой историчке Люсе и приказом по заводу был назначен механиком в цех телефонных аппаратов.
Первое из этих событий стало одним из важнейших в моей жизни — как я уже сказал, мы сорок четыре года шагаем рядом. Назначение меня механиком также имело серьезные последствия — оно положило начало моей административной карьере: с тех пор я уже не работал, а только руководил.
Обрадовавшись тому, что появился новоиспеченный инженер, на которого можно спихнуть работу, комсомольцы цеха избрали меня сво
им секретарем. Это было интересно, и я с удовольствием организовывал разные мероприятия для цеховых ребят и девчат. Кроме одного, которое стояло у меня комом в горле. Каждый год (я уже не помню — весной или осенью) проходила кампания по подписке на заем. Дело это было, как помнит старшее поколение, добровольным, и поэтому каждый рабочий по одному вызывался в кабинет начальника цеха, и там его обрабатывали вчетвером: начальник цеха, парторг, председатель профкома и комсорг, то есть я. Люди реагировали поразному. Некоторые соглашались сразу подписаться на месячную зарплату — “только отвяжитесь и отпустите работать”, некоторые упорно крепились до конца и, облив нас помоями, уходили, не подписавшись или подписавшись на символическую сумму. Большинство же сопротивлялись, но, сломленные нашими уговорами (а иногда и угрозами), сдавались. Женщины плакали. Было все это крайне тяжело. Хотя бывали и смешные моменты. Например, один, как оценили бы сегодня, “придурок” сходу заявил, что он подпишется на полугодовой заработок, но при условии, что его снимут для кинохроники. Поскольку это было не в нашей компетенции, парторг направил его в партком завода. Чем это кончилось — не ведаю.
Не знаю почему, но заводской комитет комсомола не загружал меня идеологическими заданиями (кроме упомянутого и, естественно, политучебы), поэтому мои обязанности в основном сводились к организации субботников, вечеров, экскур-
сий и соцсоревнования.
 А
так как ребята любили свою работу и соревнование рассматривали даже как
элемент игры — “кто лучше сделает”, то
заниматься этим тоже было в удовольствие.
А
так как ребята любили свою работу и соревнование рассматривали даже как
элемент игры — “кто лучше сделает”, то
заниматься этим тоже было в удовольствие.Но комсомольская суета была побочным занятием, а основная моя работа — содержание в порядке оборудования цеха — мне нравилась, я с удовольствием руководил своей бригадой из шести человек и с азартом добывал недостающие запчасти, которых, как всегда и везде, хронически не хватало. Цех работал в три смены, и если какой-то станок ломался ночью, то начальник смены посылал за мной домой дежурную машину и я, вместе с дежурным слесарем, пытался устранить поломку до утра.
Очевидно, работал я неплохо, потому что через два года меня вы
звал главный механик завода и предложил должность начальника бюро ремонта в отделе главного механика. Это было повышение, и я с чувством гордости согласился. А зря, потому что работа с планами предупредительного ремонта, с графиками останова и прочей бумажной круговертью была куда зануднее и скучнее живой работы с людьми и машинами, и хотя по ночам меня не вызывали и был у меня нормированный рабочий день, но я часто жалел, что ушел из цеха.
Задам себе вопрос — каким было тогда мое отношение к Советской власти, отправившей моего отца на 15 лет на каторгу? Отвечаю — отношение было вполне лояльным. Конечно, я ни на секунду не допускал, что мой отец мог быть преступником, и катастрофу, случившуюся с ним, воспринимал как судебную ошибку, в чем меня усиленно поддерживала тетя Мильда (понятно, мне тогда был неизвестен размах террора 1937-38 годов). Крушение своих жизненных планов я воспринимал как произвол чиновников (достаточно сказать, что после исключения из мореходки я написал письмо товарищу Сталину, в котором выражал недоумение и просил разобраться. Через два-три месяца я получил ответ за подписью какого-то начальника канцелярии, в котором, не касаясь существа вопроса, мне предлагалось поступить в Одесский институт инженеров морского флота, “куда обратиться с документами и приложением настоящего письма”. Из чего я заключил, что если бы мое письмо прочитал товарищ Сталин, то, конечно, меня бы восстановили).
Идеи коммунизма, казалось мне, действительно выражают идеалы справедливости, и нет более благородной задачи, чем стремиться к претворению этих идеалов в жизнь. И отдельные явления, не вписывающиеся в эту идиллическую картину (как, например, подписка на заем) мощно заглушались пропагандой. Что-что, а промывание мозгов в Советском Союзе было поставлено на высочайшем уровне.
Наступил март 1953 года. Умер товарищ Сталин. И чего уж там скрывать, были у меня слезы на глазах в минуту прощания, когда все скорбно стояли молча и только рев заводских гудков возвещал о грядущих ужасах. Лично мне Сталин ничего доброго не сделал, но было как-то тоскливо — как же жить дальше без вождя? Тогда я еще не знал, что свято место пусто не бывает и новый вождь быстро объявится.
Еще до смерти Сталина из лагеря вышел мой отец, но он не имел права жить в столицах союзных республик и в больших городах. И поскольку мама была в Ашхабаде, он поехал в Туркмению и устроился в маленьком городишке Иолатань, недалеко от Ашхабада.
В сентябре состоялся первый после смерти Сталина пленум ЦК КПСС, тогда еще ВКП(б), посвященный сельскому хозяйству. Я говорю “первый”, потому что их было несколько, и венцом этих тщетных усилий обеспечить страну продовольствием была “Продовольственная программа” Брежнева. И пленум определил корень зла — машинно-тракторными станциями плохо руководят.
Необходимо пояснение: в то время колхозы и совхозы не имели собственной техники — ни комбайнов, ни тракторов, грузовиков, ни даже плугов, борон и сеялок. Всем этим владели машинно-тракторные станции (а было их по одной в каждом районе). И за определенную плату эти МТС делали всю необходимую работу — от пахоты до уборки урожая. Как я понял довольно поздно, более идиотскую систему трудно было придумать: трактористы и комбайнеры (работники МТС, а не колхоза) получали оплату по количеству произведенной работы (за так называемые “гектары мягкой пахоты”) и поэтому пахали, сеяли, косили и молотили как бог на душу положит. Известно, что колхозники в годы строительства социализма были самой бесправной частью населения страны. Им не выдавали паспортов, они были прикованы к своей деревне, к своему колхозу как во времена крепостничества. За свою работу они получали копейки или вообще ничего не получали, поэтому и работали спустя рукава. Неудивительно, что в результате всей этой системы урожайность зерновых составляла 1112 центнеров с гектара.
И новый вождь — Никита Сергеевич Хрущев — точно определил причину этого безобразия: оказывается, вся вина в том, что руководят машинно-тракторными станциями не дипломированные инженеры, а практики. И был брошен всесоюзный клич: “Инженеры — на село!”
Была объявлена партийная мобилизация. Как всегда в нашей стране, идею довели до абсурда и хватали всех — текстильщиков, железнодорожников, мостостроителей — лишь бы был диплом инженера.
А я в это время переживал кризис. Работа мне не нравилась, я тяготился ею. И как это свойственно молодости, без долгих раздумий решил я изменить кардинально свою жизнь — и для этого уехать в деревню. Поскольку я был беспартийным, то когда я явился со своим предложением в партком, секретарь от изумления чуть не упал со стула и направил меня в Министерство сельского хозяйства, в специально созданную для этой цели комиссию (или штаб). В министерстве из всех кабинетов сбежался народ поглядеть на чокнутого, который добровольно едет в деревню. Оправившись от шока, один из членов комиссии подвел меня к большой карте Латвии и предложил выбрать место своей ссылки (т.е. своей будущей работы). Латвию я тогда не знал и равнодушно скользил взглядом по карте. Зацепился глазами, в северо-восточном углу республики, за название “Алоя”. Как красиво, подумал я, почти как алоэ. И, ткнув пальцем, сказал: “Вот сюда!” Председатель комиссии, он же заместитель министра, сверился со своим списком: “Прекрасно, в Алойскую МТС как раз нужен главный инженер. Вы согласны?” Через неделю, оформив бумаги и на полученные подъемные купив сапоги, фотоаппарат, трехлитровую банку сгущенного молока и дюжину книг по ремонту тракторов и сельхозмашин, я сел в рейсовый автобус и отбыл в неизвестность.
Я провел в Алое три года. Это были лучшие годы моей жизни. И не только потому, что я был молод, но потому, главным образом, что ни до, ни после Алой я не испытывал такого чувства гордости за свой труд. Когда я приезжал в Ригу по делам, где-то в подсознании бродило чувство: “Вот вы тут все суетитесь по своим, очевидно, нужным, но мелким делам... А я-то вас всех кормлю!” Какое прекрасное чувство ~ чувство нужности, полезности твоей работы! К сожалению, к этому примешивалась горечь от несуразности сельской жизни. Тут я воочию столкнулся с представлением о том, что деревня все съест. На заводе я имел дело пусть и не с самой передовой, но современной техникой. Здесь же я поражался убожеству конструкторской мысли и разгильдяйству рабочих — Россельмаша, Сталинградского тракторного и других прославленных гигантов. Тракторы и комбайны были сделаны тяп-ляп — лишь бы выпихнуть за ворота завода, конструкция плугов не менялась со времен Петра Великого... Случались и трогательные моменты: приезжает с поля на велосипеде пьяненький тракторист и, бережно вынув из кармана веточку, заявляет: “Болт сломался, дайте со склада новый — вот такого размера”, — потому что ни штангенциркулей, ни тем более микрометров у трактористов не было. “Радости” добавляли также изыски агрономической науки: торфо-перегнойные горшочки, квадратно-гнездовая посадка, кукуруза до Полярного круга и т.п. Словом, издевались над крестьянами кто как мог... Неудивительна была реакция деревни — пьянство. Пили часто и много, пили все — тракторист и доярка, председатель колхоза и директор МТС.
Весна, лето, осень сливались в непрерывную ленту усталости, беспрерывной езды, ругани, жары и пыли, дождя и раскисшей земли. Посевная сменялась заготовкой кормов, та, в свою очередь, уборочной. Передохнуть можно было (условно) зимой. Я говорю — “условно”, потому что зимой хоть ночью не работали. Все тракторы и комбайны свозились в мастерские, на усадьбу, и наступала пора ремонта, когда я половину времени проводил в Риге, выбивая запчасти и лимиты на капитальный ремонт двигателей. В редкие часы отдыха мы собирались вместе — интернациональная компания: заведующий мастерскими МТС (инженер из Ленинграда), по национальности армянин, главный агроном, главный зоотехник, главный ветврач (все при МТС), главврач районной больницы — все латыши, директор районного Дома культуры — русский. Должен признаться, что наша интеллигентная компания в часы досуга занималась в основном выпивкой.
Впрочем, эти три года были хорошей и жизненной, и профессиональной школой. Я научился быстро принимать решения, быстро претворять их в жизнь и нести полную ответственность за последствия. Что касается жизненного опыта, то я впервые тогда обратил внимание на огромный разрыв между официальной пропагандой и жизнью. Конечно, сельскохозяйственная техника далеко ушла с тех времен, когда я работал на полях деревни Голодница. Уже не пахали на лошадях, не косили вручную, но так же тяжел был крестьянский труд. Так же, как и сто и тысячу лет назад, крестьянин обрабатывал землю в любую погоду — и в зной, и в холод, и в дожиь. (Однажды я видел, как на осенней пашне буксует гусеничный трактор. Это меня ошеломило: колесные машины буксуют в грязи — это понятно, но чтобы гусеничная...) Я преклоняюсь перед крестьянином и его тяжелым трудом. Правда, как я уже говорил, на колхозных полях крестьяне не очень-то горбатились, но это уже другая история.
В конце 1956 года мне предложили должность главного инженера совхоза. Я отказался. Почему? Наверное, я устал.
В январе 1957 года мы вернулись в Ригу, и блудный сын возвратился на родной завод “ВЭФ”. Назначили меня начальником планово-диспетчерского бюро цеха. Весь день гонять шайбы и гайки — дело, конечно, живое, но уж больно неинтересное. Через полгода мне поручили более привычную работу — назначили главным механиком завода.
А тем временем прошел XX съезд партии и был разоблачен культ личности.
В заводском сквере стояли два памятника: Ленин и, естественно, Сталин. В человеческий рост, из гипса, но покрашенные под бронзу. И вот однажды утром идущие на работу люди с удивлением видят, что Сталина больше нет. Оказывается, ночью специально подобранная группа рабочих-коммунистов по заданию парткома разбила молотками статую Сталина, а осколки закопали в яму.
Представляю себе этих бедняграбочих: разбивать молотком статую Сталина, недавнего кумира, пусть даже мертвого. Конечно, культ разоблачен, но все же, все же...
Через тридцать восемь лет в Риге демонтировали памятник Ленину, стоявший в центре города. Огромную чугунную статую, стоявшую на здоровенном гранитном постаменте, тихо и спокойно ликвидировали в одну апрельскую ночь, и идущие на работу люди равнодушно взирали на девственный газон, как будто там никогда ничего не было...
Понаторели-таки мы в этих операциях. Кто следующий? Я часто вспоминал вещие слова поэта, будто сказанные им в назидание советским и постсоветским людям:
“Я сжег все, чему поклонялся, И поклонился тому, что сжигал...”
Пронеслась волна реабилитации. Был реабилитирован и мой отец — его восстановили в партии, вернули воинское звание полковника и орден Красного Знамени, дали соответствующую его званию военную пенсию. К сожалению, справедливость восторжествовала поздновато — двенадцать лет Колымских лагерей превратили отца в глубокого инвалида. Он переехал в Ригу, но оставалось ему жить недолго. Впрочем, о своем отце я хотел бы рассказать отдельно, и не своими словами, а выдержками из официальных документов и книг. Вот это повествование.
1. Ян Христианович Биркенфелъд родился 29 декабря 1894 г. в Лифляндской губернии в семье батрака. С 8 лет работает по найму... Член Социал-Демократии Латышского края с августа 1912 года... В апреле 1917 г. избирается членом Видземского Совета безземельных крестьян, членом Видземского губернского Земского Совета... Как член Валкско-Руиенского комитета СДЛК активно участвует в подготовке и проведении Октябрьской Социалистической революции... Делегат I съезда Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии, на котором избирается членом Центрального Исполнительного комитета Советской Латвии... После съезда ЦК КПЛ направляет его своим представителем в оккупированный немцами город Лиепаю, где он избирается членом Лиепайского комитета КПЛ, председателем Военно-Революционного Комитета. Он является основателем и первым редактором газеты “Коммунист”, органа Латвийской Коммунистической партии в Лиепае... Осенью 1919 г. арестован ульманисовской охранкой, содержится в Рижской центральной тюрьме. После заключения мирного советско-латвийского договора, в порядке обмена политзаключенными, высылается в Советскую Россию... В 1920 г. вступает в Красную Армию... ”
Борцы за Октябрь. Рига.
“Лиесма”, 1967.
“Лиесма”, 1967.
2. Из служебной аттестации:
Весьма способный работник. Работу любит и работает аккуратно. Характер твердый, решительный, довольно открытый и общительный. Живет на жаловании весьма скромно...
12 июня 1929 г.
Начальник Разведупра РККА Берзин.
Начальник Разведупра РККА Берзин.
Хорошо развитый, с широким кругозором работник, прекрасно разбирающийся в сложной политической обстановке и имеющий большой опыт агентурной работы. Военное дело изучает на военных курсах и путем самообразования. Достигнутые за год результаты — хорошие. В работе усидчив и аккуратен, проявляет инициативу. Характер спокойный и ровный, взаимоотношения с подчиненными хорошие, сам дисциплинирован и умеет поддерживать дисциплину. Назначению вполне соответствует.
1934 г. Нач.Разведупра
РККА Берзин.
Работает в разведке с
1920 года. За эти годы он вырос в крупного разведчика, обладающего
колоссальным опытом зарубежной агентурной разведки. С большим успехом
он выполняет сложные и трудные задания, связанные подчас с риском.
Обладает широким кругозором, который позволяет ему правильно ставить и
осуществлять задачи военной разведки. Как старейший разведчик
заслуживает поощрения.28 мая 1935 г. Зам.нач.
РУ РККА Никонов.
3.
17 января 1936 г. приказом НКО СССР 1 0052 присвоено воинское
звание “полковой комиссар ”.РУ РККА Никонов.
4.... "Старик” Берзин воспитал плеяду блестящих советских разведчиков: Зорге, Маневича, Абеля, Биркенфельда...
Е. Воробьев.
Земля,до востребования.
М. Худлит., 1984.
5.
Из уголовно-следственного дела: “Арестован 8
октября 1938 г. органами НКВД. 27 апреля 1939 г. осужден Военной
Коллегией Верховного Суда Союза ССР на 15 лет исправительнотрудовых
лагерей по обвинению в участии в контрреволюционной латышской
организации, в шпионаже в пользу иностранньк государств и в службе в
латышской полиции по статье 58/ч.6,11,13/ УК РСФСР”.Земля,до востребования.
М. Худлит., 1984.
6. Из акта освидетельствования ВТЭК Иолатанского райсобеса 1 508 от 7.07.51: “Общий атеросклероз с явленями субкомпенсации сердца... Страдает гемоптизией (кровохарканьем) ”.
7. 1 4519/4 от 15.08.51 "... Права на пенсию Вы не имеете, т.к. имеющийся у вас пятилетний срок поражения в правах, лишающий права на пенсию, начался только со дня Вашего освобождения из заключения в 1950 г. и соответственно закончится лишь в 1955 г., только после этого может быть поставлен вопрос о назначении пенсии при наличии группы инвалидности и требуемого законом стажа работы по найму ”.
Министр соц.обеспечения
ТССР Атанепесова.
8.
1 4Н-03363/53 от 22.10.55... “Определением Военной
Коллегии Верховного Суда СССР от 14 сентября 1955 г. дело по обвинению
Биркенфельда Яна Христиановича прекращено за отсутствием состава
преступления”.Зам. пред. ВК ВС СССР
полковник юстиции Борисоглебский.
9. В ноябре 1955 г. постановлением КПК при ЦК КПСС Я.Биркенфелъд восстановлен в партии.
10. Приказом от 6 марта 1956 г. за подписью Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Г.К.Жукова Биркенфельду Яну Христиановичу присвоено звание полковника.
11. Постановлением СМ Л ССР 1 279 от 9 мая 1956 г. Яну Христиановичу Биркенфельду назначена персональная пенсия республиканского значения.
12. Умер 9 февраля 1967 г. Похоронен с воинскими почестями на Первом Лесном кладбище г. Риги.
Невзирая на то, что Хрущев наломал много дров, за одно это — за “реабилитанс” — ему надо бы поставить памятник. И не только потому, что он спас сотни тысяч жизней, а тем, кого не успел спасти, вернул доброе имя, но и потому, что он попытался (с немалым мужеством) сломить чудовище идолопоклонства. Это ему не удалось, возможно, и потому, что стремление обожествлять своих вождей таится в генах каждого из нас, очевидно, со времен непреодоленного еще язычества. Это стремление перешло и в кровь “единой общности — советского народа”, чему немало способствовала всесокрушающая пропаганда. Она очень быстро “сляпала” из Хрущева очередного бога (чему он, очевидно, и не очень сопротивлялся).
Хрущев попробовал сломить могущественный слой московской бюрократии, ликвидировав союзные отраслевые министерства и образовав территориальные Советы народного хозяйства (совнархозы). На заводе мы сразу почувствовали, что Власть стала ближе к нам. Оперативнее и качественнее решались вопросы, отпала необходимость по каждому пустяку посылать гонца в Москву, стало легче решать совместные проблемы с другими предприятиями в рамках города или республики. И когда в последующие годы я разговаривал со своими коллегами-заводчанами из других республик или отраслей, все с ностальгией вспоминали времена совнархозов. Я, естественно, не посвящен в тайны кремлевских дворцовых интриг, но полагаю, что одним из главных поступков, который не простила Хрущеву партийно-административная верхушка, была ликвидация министерств.
Во внешней политике Хрущев действовал не менее нахраписто, что, естественно, не прибавляло симпатии к Советскому Союзу со стороны зарубежных государств и народов. Впрочем, нам было на это наплевать, и мы были глубоко убеждены, что простые труженики всех стран стоят и падают за Советский Союз.
Тем временем разразился Карибский кризис. О том, насколько мы были близки к войне, я сужу по следующему эпизоду. К тому времени я уже был главным инженером завода, и вот однажды поздно вечером меня вызывает к себе директор и говорит, чтобы я был готов в течение ближайших часов перейти на производство мобилизационного плана (все заводы имели в сейфе секретный мобилизационный план — перечень продукции, которую надлежало данному заводу изготовлять в случае войны). Я пригласил главных специалистов — из-за позднего часа многих пришлось вызвать из дома — и отдал необходимые распоряжения. Домой я ушел поздно ночью и, признаться, до утра не мог заснуть. Но как известно, все обошлось (как говорят, рассосалось), и завод продолжал выпускать сугубо мирную продукцию — телефонные станции и аппараты, радиолы и радиоприемники.
Но Хрущев продолжал буйствовать как слон в посудной лавке, правда, уже внутри страны. И все же, несмотря на все свои художества, Хрущев сделал многое. Он первый из вождей понял, почувствовал: прогнило что-то в Датском королевстве. Попытался ввести какие-то реформы, да мировоззрение держало его в жесткой узде. Но он хотя бы попытался.
В ту пору со скрипом и скрежетом начинал подниматься железный занавес, и в Москве в 1957 г. был организован грандиозный Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Были приглашены тысячи людей со всех концов планеты, и, конечно, штатных переводчиков не хватало, по всей стране стали собирать инакоязычных, вплоть до знатоков наречий зулусов и ирокезов.
Еще весной того года меня вызвали в заводской комитет комсомола и спросили: “Ты еще помнишь французский язык?”— “Конечно!” — “И свободно можешь на нем говорить?” — “Конечно!” — “Прекрасно. Поедешь на фестиваль... “
В поезде Рига-Москва один из вагонов почти полностью был заполнен студентами старших курсов факультета иностранных языков университета и их преподавателями. Среди них были две экзотические личности — я и один врач, проведший молодость в Мексике. Надо сказать, что по владению разговорным языком мы могли дать сто очков вперед студентам, да и преподавателям тоже, пожалуй, очков пятьдесят.
Разместили нас в пустующей школе (дело было уже летом), раздали талоны на питание. До открытия оставалось три дня и все разбрелись — кто в ГУМ, кто в Мавзолей.
В то время еще не научились устраивать грандиозные праздники на стадионах и поэтому открытие фестиваля свелось к шествию делегаций по Садовому кольцу. Даже не шествию, а проезду на автобусах и грузовиках. Зрелище было впечатляющим... Все Садовое кольцо представляет собой спрессованную массу икры из людей. Висят гроздьями на балконах, сплошь покрывают крыши... Отдельные смельчаки забрались на шпиль высотного здания на Смоленской площади. Автобусы и грузовики, набитые под завязку орущими, поющими и размахивающими флагами иностранцами, облепленные орущими, поющими и размахивающими руками москвичами, с трудом ползут по узкому проходу, расчищенному милицией. Эйфория потрясающая... Оно и понятно — москвичи в жизни своей не видели иностранцев (если не считать пленных немцев), а иностранцы впервые попали в дикую Россию, где медведи бродят по занесенным снегом деревням и городам.
На следующий день начались фестивальные мероприятия — концерты и встречи по интересам (тогда еще не знали слово “симпозиум”). На концертах наша, переводчиков, задача состояла в установлении контактов между руководителями коллективов и организаторами, а также между артистами и благодарными зрителями. Это было несложно. Намного хуже было на встречах, где на нас возлагалась задача синхронного перевода. Это самая тяжелая работа, которую я знаю. Представьте себе небольшую кабинку (размером с душевую) с застекленной передней стенкой, откуда виден зал и оратор на трибуне. На голове у вас наушники, под носом — микрофон. В наушники вы слышите русскую речь и должны в том же темпе наговорить ее по-французски в микрофон (или наоборот — слышите французскую речь и говорите по-русски). Напряжение чрезвычайно высокое... Стоит на миг запнуться в поисках нужного слова — и все, ты потерял нить. Не пытайся догонять, лучше пропусти одну или две фразы. Конечно, это непрофессионально, может быть, именно в эту фразу оратор вложил суть своего выступления, а ты ее пропустил. Хотя мы и менялись каждые двадцать минут, все равно из кабинок выходили мокрые...
Москва знакомилась с иностранцами... Трудно писать о них — давным-давно' уже все сказано и о неграх со сверкающими белками глаз, и о шотландцах в юбках и т.д. Однако видеть их своими глазами совсем другое дело — замечаешь подробности, мимо которых прошли любители путевых записок. Например, юбочка у шотландца колышется в такт шагам, как это мы наблюдаем у прекрасной половины человечества... Правда, зад у шотландца поджарый, эффект не тот, однако выглядит это довольно пикантно. Шотландец привык к любопытству публики и равнодушно вышагивает костистыми волосатыми ногами, обутыми в туфли 48 размера... Негры почему-то не скалят зубы — может быть, им холодно, единственные в то жаркое лето в Москве они ходили в костюмах. За индусками бегали толпы москвичек, зеленых от зависти: индуски с ног до головы обмотаны в прекрасные шелка. Что касается остальных — англичан, французов, немцев и прочих итальянцев, — то к ним быстро привыкли и не оборачивались даже на двухметрового верзилу в коротеньких штанишках (сейчас мы знаем — это называется шорты). Сейчас, конечно, никого уже ничем не удивишь, мы привыкли к иностранцам — их на улицах и Риги, и Москвы почти столько же, сколько аборигенов, но тогда шел только 1957 год и все это было в диковинку. Для нас, советских людей, империализм был исчадием Зла и люди, прибывшие “оттуда”, были потенциальными шпионами и диверсантами. Жевательная резинка и кока-кола были оружием сатаны. Поэтому фестиваль сослужил добрую службу, показав нам, что “там” живут такие же люди, как мы. Я полагаю, что не это было целью организаторов фестиваля. Целью, очевидно, была пропаганда советского строя. Боюсь, что эта цель достигнута не была, хотя, конечно, представления о медведях, бродящих по занесенным снегом деревнях, были развеяны. Фестиваль явился ярким примером того, что можно потратить огромные деньги, но не получить желаемого эффекта, если изначально поставленная цель безнравственна...
Наслушавшись песен и наглядевшись танцев всех народов мира, проникшись заботами молодых докеров, металлистов и молодых мам, борющихся за мир, с чувством честно выполненной работы я через две недели возвращался домой, где меня ждал мой маленький фестиваль — годовалая дочь.
Мне лично реформы Хрущева пошли во благо. С меня было снято клеймо “сына врага народа” и начальство начало бурно двигать меня по служебной лестнице. За какие-то десять лет я прошел ступени — зам.главного механика, главный механик, зам. главного инженера, главный инженер, директор завода... Я вошел в номенклатуру и уже не выходил из нее до пенсии. Перед последним этапом меня пригласили вступить в ряды коммунистической партии. Что я и сделал, и — положа руку на сердце — до сих пор не знаю, что было главным в моем решении — остатки идеализма или стремление сделать карьеру. Стал я также “выездным” и с тех пор почти ежегодно бывал в загранкомандировках. Во время моего директорства (которое длилось шесть лет) я убедился в невозможности достижения коммунистических идеалов, и к этому выводу я пришел чисто экономически. Работая все время на производстве, я, разумеется, не мог не видеть, что производительность труда растет крайне медленно и, судя по доходившим до меня отрывочным и непроверенным сведениям, рост ее сильно отстает от роста производительности в капиталистических странах, но я полагал, что это частный случай нашего завода, объясняющийся некомпетентным управлением со стороны министерства. Но когда я, став директором, походил по московским коридорам власти — по кабинетам Госплана, Совмина и нашего родного министерства, я относительно быстро убедился в том, что вся наша экономическая система (как ее впоследствии назвали — командноадминистративная) крайне неэффективна и медленно, но верно ведет народное хозяйство страны, по крайней мере — промышленность, к полному разложению. Я понял, что отсутствие безработицы (числившееся одним из важнейших достижений советской власти) является крайне негативным фактором: чем больше нехватка рабочих, тем меньше они дорожат своим рабочим местом, тем менее интенсивно и качественно работают, следовательно, продукции производится меньше, то есть требуется большее количество рабочих, что усугубляет нехватку рабочей силы, что, в свою очередь, уменьшает производительность труда... И так далее. Замкнутый круг, неизбежно ведущий к застою. И порвать этот замкнутый круг можно только извне, силой. Конечно, безработица — зло. Однако — рассуждал я далее — человек по натуре ленив и испокон веку человека к труду принуждал страх. В первобытном обществе — страх голодной смерти, в рабовладельческом и феодальном — страх плетки и, опять же, насильственной смерти. В капиталистическом — страх безработицы (которая, считал я, не грозит голодной смертью, но является смертью гражданской). И даже в социалистическом обществе на трудящихся нагоняли страх суровые сталинские указы (за опоздание — тюремное заключение, за саботаж — расстрел, а под “саботаж” можно подвести любую небрежную работу...).
Но уже наступили времена брежневской вседозволенности. Дисциплина развалилась, и производительность труда катастрофически падала на глазах изумленных зрителей. Профсоюзы грудью вставали на защиту пьяниц и прогульщиков, и руководители — от мастера до директора — махнули рукой. Страна погрязла в безответственности и пьянстве... И все это под гром оваций, дожди орденов и звезд и научные теории о “развитом социализме”.
И чем дальше мы “развивались”, тем хуже шли дела в экономике. Я уже имел возможность знакомиться с информацией “из-за бугра” — бывая за рубежом, я смотрел ТВ, читал местные газеты и ужасался, насколько мы отстали по всем отраслям (кроме производства вооружений, в котором мы были “впереди планеты всей”).
Вот тогда-то постепенно я и пришел к выводу, что если мысль Ленина о том, что “решающим для победы нового общественного строя является производительность труда” верна, то коммунизма нам не видать как своих ушей. Да и наш “развитой социализм” неминуемо лопнет рано или поздно. И хотя подобные мысли приходили в голову многим (я сужу по доверительным разговорам, которые я иногда имел с высокими чинами из министерства, Госплана), мало кто задумывался — а что будет дальше?
Будь я порядочным человеком, я тогда же должен был выйти из рядов КПСС. Однако не вышел. Я любил свою работу, жил обеспеченной жизнью — и у меня не хватило мужества лишиться всего. К тому же я находил удовлетворение в том, что на своем участке добивался успехов... Несмотря на весь идиотизм системы планирования, снабжения, сбыта, финансирования, мы все-таки умудрялись увеличивать объем производства, улучшать качество, строить новые корпуса, увеличивать зарплату. И все это, конечно, радовало меня. Много внимания я уделял непроизводственной сфере — развитию жилищного строительства, детских садов, спортивных сооружений, то есть всего того, что называлось ныне забытым словом “соцкультбыт”. И делал я это не потому, что, согласно канонам управления, такие действия руководства поощряют подчиненных к более интенсивной работе, а просто потому, что было приятно делать добро для людей. (И когда сейчас, спустя почти тридцать лет, ко мне подходит на улице незнакомый человек, здоровается и говорит: “Вы меня, конечно, не помните, но в свое время благодаря Вам я получил квартиру”, такая встреча поднимает настроение).
Я стал директором в июне 1967 года, в крайне тяжелое для завода время. Суть в следующем. Примерно половину Выпускаемой продукции составляли телефонные станции и аппараты, имевшие устойчивый сбыт, а вторую половину — радиопродукция (примерно полмиллиона штук в год ламповых радиол и тысяч тридцать переносных транзисторных приемников). Производство радиол было хорошо налажено: со сборочных конвейеров каждую минуту сходили четыре штуки. Что касается популярных тогда “Спидол”, то они выпускались на полуэкспериментальном участке (как говорят производственники — делались “на коленках”). И вот случилось, что завод затоварился радиолами... Вещь, казалось бы, немыслимая при существовавшей системе снабжения и сбыта: торговые предприятия получали от своего министерства фонды на нашу продукцию, мы получали соответствуюущие наряды, и вся работа отдела сбыта заключалась в своевременной отгрузке вагонов по указанным адресам. Система работала бесперебойно и слаженно, чиновники в Госпланах и Госснабах в поте лица распределяли миллиарды тонн продукции, выпускаемой в необъятной стране, и никто ни за что не отвечал. И вот случился сбой: громоздкие ламповые радиолы не покупались, и магазины нашли лазейку в давно забытой, никем не читаемой, но тем не менее действующей инструкции, которая позволяла им возвращать изготовителю товар, не пользующийся спросом.
И стали возвращать нам радиолы целыми вагонами. Это была катастрофа... Забиты все склады, все свободные помещения, красные уголки, спортзал, монбланы радиол стоят на заводском дворе, покрытые брезентом (а конвейеры, как вы помните, каждую минуту выплевывают четыре штуки). И, как следствие, не выполняется план реализации и банк грозится не выдать деньги на зарплату (а в отличие от нынешних времен, невыплата зарплаты была немыслимым ЧП, и даже только ее задержка на день-два грозила руководителю крупными неприятностями).
Я чувствовал себя как мышь в мышеловке... Инженеры срочно вносили какие-то улучшения в конструкцию радиолы — помогло как мертвому припарки. Я метался между Ригой и Москвой — убеждал своего министра снизить план производства, убеждал министра торговли продавать радиолы в рассрочку, убеждал секретаря ЦК (латвийского) воздействовать на банк. Все бесполезно...







