ЮРИЙ ИВАНОВИЧ АБЫЗОВ — ФОЛЬКЛОРИСТ
Борис Инфантьев
Даугава, 2007, №1
Поначалу тема эта вызывает некоторое недоумение — как так, Абызов — фольклорист! Ведь общеизвестна его неприязнь к любого рода мистификациям (вспомним блоковское «Двенадцать»!), к многочисленным мифам о Маяковском, которые Юрий Иванович разоблачал со всем присущим ему темпераментом. Юрий Иванович и меня однажды покритиковал за поддержку попытки Потемкина выдать свое шутливое произведение о Рижской Пороховой башне за подлинное фольклорное произведение, записанное якобы писателем от какого-то мистического солдата Иванова.
И все же вклад Юрия Ивановича в фольклористику, и русскую, и латышскую, еще совершенно не оценен.
Кстати сказать, и мои личные деловые контакты с Ю.Абызовым возникли как раз на фольклорной почве, когда он, уже известный переводчик и вершитель литературных судеб в издательстве, поручил мне, уже тогда официально признанному фольклористу, соорудить подстрочник райнисовской пьесы «Илья Муромец».
Взявшись за дело, я сразу же пришел в замешательство: как быть с многочисленными райнисовскими малопонятными неологизмами? Как их понимать? Как их переводить? Обратился поочередно ко всем специалистам по Райнису: Фрейнбергу, Антону Биркерту, Краулиню, Соколу. Но специалисты красноречиво молчали и пожимали плечами. И только Юрий Иванович пришел мне на помощь: «А вы присмотритесь к былинным словам и речениям». И действительно, ключ к пониманию райнисовских неологизмов был подобран. Только в одном случае Райнис в своем неологизме не до конца раскрыл содержание былинного слова. Это «выходец с того света». Райнис в те поры маскировался под марксиста-атеиста. Поэтому «выходца с того света» превратил в «выходца» («nācējs»).
Главный вклад Ю.Абызова в фольклористику, как русскую, так и латышскую, — его идейно-эстетические раздумья о переводе на русский язык латышских народных песен, подкрепленные его собственной переводческой деятельностью в этой области.
Итогом этих раздумий явилась пространная статья в «Даугаве» (1982, №2) под названием «Почва и судьба».
Статья эта не только о причинах плохих переводов и теоретические основы, подкрепленные собственным примером. Для того чтобы решать и решить эти вопросы, необходимо разобраться, что же такое латышская народная песня — дайна, в чем ее отличия и сходство с русскими частушками. И мнение Ю.Абызова по этому вопросу оригинальное, свое, незаемное.
«Мир дайн отмечен извечной простотой, которая присуща миру народа в его вековом бытовании. Круг интересов очерчен четко, иерархия ценностей определена строго, всему, всякой вещи свое место под солнцем».
На гой стадии сознания, которая сформировала дайны, вопросы космогонии, начала и конца единого бытия, эсхатологические проблемы не интересовали человека. Мораль, нормы поведения не ставились в связь с судьбами мира. До реалистического сознания было еще далеко, мифологическая версия покрывала все, достаточно было считаться с тем, что есть силы, которые ведают своей областью, а уж они сами знают, что там к чему. Важна лишь та сторона этих сил, которая непосредственно определяет жизнь человека. Как не спрашивают ответа или отчета у полновластного главы рода, патриарха, самовластной мимики, так не спрашивают и с антропоморфных божеств, таких, как Сауле, Диевс, Перконс, Лайма, Аусеклис, как там они приводят в движение механизм звезд, вод, весен, облаков и т.д.
Жизнь человека — цикл, включенный в более широкий цикл природных явлений. Рассвет н закат, молодость и старость, цветение и увядание, окружающая природа, познанная и названная в той мере, в какой это вызывается необходимостью. Нормы морали, этики определяются кодексом тесного общежития. Чрезвычайно крепкие рямки обрядов и традиций. Вот, пожалуй, и все. Все определено, все четко и ясно для человека в этой структуре. Да — да, нет — нет, все остальное от лукавого. Впрочем, лукавого в христианско-теологическом смысле в мире дайн нет. Нет и христианского Бога. Есть лишь отражение некоторых моментов обрядности (в свадебном цикле).
Поэтому при переводе не может быть никакой лексики, противоречащей этому миру. Не должно быть слов, связанных с метафизикой, отвлеченным мышлением, катехизисом и книжной лирикой, вообще книжностью, ничего натурфилософского, никакой лексики, связанной с городским бытовизмом, с языкам реалистического рассказа».
На мой взгляд большую ценность представляет та довольно солидная часть статьи, в которой автор делает первую удачную попытку сопоставления дайн и частушек.
Да. Такие попытки сопоставить эти разновременные творения человеческого гения были. В конце 40-х годов XX века одна из старейших и опытнейших латышских фольклористов Анна Берзкалне, в те годы научный сотрудник Института фольклора Академии наук, такую попытку осуществила, но пришла к выводу, что между дайнами к частушками нет никаких точек соприкосновения. Такой вывод появился в результате строгого выполнения всех методологических и методических требований финской школы (позиции эти, кстати, уже тогда подвергались уничтожающей критике!). Исходя из требования исследователей перехожих (заимствованных) сказок и баллад, наличие сходства можно было установить только при наличии общих сюжетов и общих образов, идентичных фраз и выражений — фольклорных формул. Ничего подобного обнаружить в дайнах и частушках разумеется, не удалось. Ю.Абызов же смело отбросил сдерживающие постулаты финской школы и подошел к сравнению с реальных позиций: сравнивать то, что поддается сравнению и делать это для того, чтобы доказать правомерность утверждения: «Через чужое лучше познается свое».
Как проводится сопоставление, покажем на одном на наш взгляд самом удачном примере. Сначала приводится оригинал:
Ne tu viena, sila priede,
Ne tev‘ vienu vējiņ pūta;
Neraud’ gauži, bārenīte,
Ne tu viena bārenīte.
Затем подстрочник:
Не одна ты, сосна, в лесу,
Не тебя одну ветер колышет;
Не плачь горько, сиротинка,
Не одна ты сирота.
И, наконец, сопоставимая частушка:
Не одна-то, не одна
В поле вересиночка,
Не одна я, не одна
Девочка-сиротиночка.
«Есть различие, — комментирует Ю.Абызов, — но ведь есть и что-то общее».
Бывают и такие случаи, когда одна дайна разными своими компонентами сопоставляется с двумя разными частушками, и наоборот.
Автор статьи убедительно развенчивает неверное мнение, что только частушка обладает специфическим «складом-ладом», двучленной композицией, обилием рифм и рифмоидов.
Особое внимание Ю.Абызов уделяет вопросу, что отличает дайну от частушки. По моему мнению, выводы автора статьи так глубоки и значимы, что считаю своим долгом их здесь повторить, как выдающийся вклад в сопоставительную фольклористику.
«...разделяет дайну и частушку одно немаловажное обстоятельство: между ними несколько веков. Дайна отражает традиционный уклад народа с твердыми понятиями, обрядами, обычаями, нравственными воззрениями, отражает незыблемую шкалу ценностей. Потому и голос ес. отличается «вежеством».
Частушка возникла на излете устного народного творчества, в тот период, когда рушился старый уклад. Это песенное творчество «сердитых молодых людей» прошлого века, для которых первая заповедь — не очень-то считаться с заповедями:
.................................................
Не отдать вам силой замуж,
С головы сшибу венец.
Ситуация, в корне противоречащая духу дайны.
Частушка кричит, ёрничает, дерзит, играет с понятиями, со словами, со смыслом. Играет с самой основой, на которой держится, с параллелизмом. Это раньше первые два стиха означали предпосылку для параллельной переклички, сопоставления. В частушке они уже могут абсолютно не относиться к дальнейшему. Мнимо традиционный запев. И следует вовсе не параллель, а нечто контрастное, неожиданное, иногда эпатирующее.
Отсюда и неожиданная рифма, часто виртуозная, которая образуется уже по другому принципу, нежели традиционная грамматическая рифма, и звукопись, и подражание гармошечному наигрышу.
А дальше уже трудно удержаться от насмешки и над собой. Вы ждете, что мы будем петь традиционно, как все и как всегда? Так вот же вам «несклады», где каждая строчка вроде бы обычное клише, а все вместе приводит к юмору абсурда...
Частушка — это насмешка. И поэтому так нелепы «утверждающие» частушки, которые время от времени пытаются насаждать псевдофольклористы» .
Львиная доля статьи Ю.Абызова-переводчика дайн посвящена именно проблемам, важным для переводчика. Это вопрос и об использовании и о воспроизведении в переводе различных видов художественной выразительности: параллелизма, рифмы, рифмоидов, аллитерации, использование изобилующих в дайнах деминутивов, а также непереводимых слов, в том числе имен собственных — названий латышских мифологических существ при полном отсутствии русских мифологических имен в частушках и в русских народных песнях вообще.
Чрезмерное обилие деминутивов в дайнах уже давно было предметом дискуссий переводчиков. Разобраться в этом вопросе решил и Ю.Абызов. Он не отрицает особого значения и изобилия этих деминутивов в дайнах. Но и частушки не сетуют на недостаток этого варианта существительных. Однако постановке знака равенства между этим явлением в дайнах и частушках мешают некоторые особенности деминутивов, порождающие особенности несоответствия.
Во-первых. В дайнах немало таких деминутивов, которые при адекватном переводе их на русский язык ничего, кроме недоумения, не вызывают. Если яблочко, овечка, глазок, ключик, березка, пчелка не вызывают в переводе никаких возражений, то как оценит читатель перевод, в котором появятся такие слова: осинка, пивко, пахарек, человечек, талерочек, клюквочка, озерце?
Но важно и несоответствие даже по количеству латышских и русских уменьшитетельно-ласкательных суффиксов. Если в латышском языке только две пары суффиксов для существительных мужского и женского рода, что делает эти формы незаменимыми дня создания однотипных рифм и ассонансов, то в русском языке пестрая картина суффиксов мешает этому. Ни рифмы, ни ассонанса не получится, если мы соединим рученьку с глазиком, ручонку с братишечкой, бородку со штанишками и так далее.
Пахаречек взял топорочек, пошел по лесочек и срубил там дубочек так же неприемлемо, по мнению Ю.Абызова, как взял сударик топорик, пошел во дворик, срубил яворик.
Уже с самого начала перевода дайн на русский язык перед переводчиком (а был это выпускник Рижского православного духовного семинария Янис Спрогис — горячий сторонник славянофилов-обрусителей) встал вопрос о том, как в переводах передавать имена собственное, а именно, имена древних мифологических существ, которых в латышских песнях, подбираемых тогда для публикации, было огромное множество, а также как передавать названия других предметов, известных и употреблявшихся только латышами.
Для обрусителя Спрогиса вопрос решался просто: ничтоже сумняшесся он Перкона называл Перуном. Лектор Юрьевского университета, впоследствии профессор Рижского университета Лаутенбах то ли совсем запутался в этой проблеме, то ли ради эксперимента (чтобы не оговаривать лишний раз в сносках один и тот же персонаж) в переводе одной и той же песни называет один и тот же персонаж то Нелайме, то Несчастье.
Абызов же в рассматриваемой статье, а также в сборнике дайн 1984 года завершает дискуссию призывом вернуться к традиции Фрициса Бривземниека, который и название богов, и специфических латышских предметов оставлял не переведенными, снабженными исчерпывающими комментариями такого порядка:
«Tautu dēls» и «tēva dēls» не просто парень, молодой человек, а юридическое лицо с материальным обеспечением в виде отцовского наследия, земельного владения и прочего, выступающий в таком качестве, пока он еще не женат, пока, так сказать, «женихается». А женившись, он уже «arājiņš», то есть, буквально «пахарь». Но не наемный какой-нибудь сельскохозяйственный работник, а владелец пашни, кормилец, от которого зависят судьба целой семьи.
Через два года после написания статьи Ю.Абызов снова обращается к проблемам перевода дайн на русский язык и, соответственно своим установкам, публикует большое количество переведенных им латышских дайн. Об этом сборнике (Латышские дайны. Р. 1984) мне пришлось писать 15 лет назад в газете «Советская Латвия» (10.10.90).
«Среди многих современных антологий дайн я бы выделил сборник, составленный Юрием Абызовым. Лучшие традиции публикаторов латышских песен он дополнил тем, что привел не только художественные переводы, но и оригиналы, что позволяет в полной мере оценить качество перевода, а также проникнуть в саму идейную и художественную суть творчества латышского народного гения.
У Ю.Абызова сложилась собственная, весьма оригинальная концепция перевода латышских дайн, которые он рассматривает в первую очередь как своеобразные песенно-речитативные изречения идейно-эстетического порядка, что является итогом длительных теоретических разысканий, тут же проверяемых на собственной переводческой практике. Он совершенно правомерно считает, что «переводить многие дайны нужно «букетами», где «цветы» подобраны так, чтобы они дополняли друг друга, объясняли своим соседством, поддерживали, перекликались». о положение в достаточной мере объясняет непривычную по первому впечатлению классификацию латышских народных песен. Основываясь на известной систематизации Кришьяниса Барона «от колыбели до могилы», Ю.Абызов как составитель трижды повторяет циклы дтышских народных песен о жизненном и трудовом пути, о нравственпом становлении человека. Такая систематизация в наши дни выиграла бы, думается, еще больше, если бы каждый цикл был бы привязан к определенной эпохе. В таком случае в первом цикле оказались бы песни самого древнего происхождения, скажем, до вторжения в прибалтийские земли иноземных поработителей. Второй цикл могли бы составить народные песни позднего феодализма (14-16-й века), третий цикл — песни более позднего происхождения. В этом случае сформулированные цели — «приучать русского читателя к своеобразным образам латышского народного творчества и их вариантам», оттенкам значений и умению видеть второй и третий план «оказались бы достигнутыми в более полной мере».
Вдумчивое, эрудированное рассмотрение важнейших проблем, связаных с переводом на русский язык латышских дайн, включая и пока единственную попытку сопоставить дайны и частушки, не единственная заслуга Ю. Абызова в области фольклористики.
Большое значение для истории русской фольклористики в Прибалтке представляет его четырехтомная био-библиография русского печатного слова в Латвии. Здесь мы находим исчерпывающие сведения по библиографии Д.Фридриха, С.Сахарова, В.Синайского, И.Заволоко, Н.Бережанского — всех тех, кто в свое время создавал эту историю. В бибиблиографии Абызова не только указание на их фольклористические туды и не только собранные воедино в книгах и сборниках, но и главные факты их биографии. А ведь русские фольклористы в Латвии —не только энтузиасты собирания народного творчества. Они же в подавляющем большинстве своем — общественные и культурные деятели, многие из них неоднократно подвергавшиеся репрессиям при coветской власти, люди, чьи имена еще совсем недавно небезопасно было даже упоминать. И это примечательно и характерно для оценки гражданского мужества автора, который в годы не столь отдаленные задумывает создание такого труда — мемориала людям, потрудившимся на благо развития русской культуры в Латвии и подвергавшихся в свое время коммунистическим репрессиям.
Но абызовский четырехтомник хранит не только светлую память о русских латвийцах-фольклористах. При тщательном просматривании его можно отыскать и среди публикаций зарубежных авторов небезынтересные для фольклористов, особенно занимающихся сравнительной фольклористикой. Так, к примеру, мы в абызовском четырехтомнике находим информацию об Амфитеатрове, который, прочитав в газете «Сегодня» фрагмент «Лачплесиса» Пумпурса, сразу же взялся за сопоставление латышского героического эпоса с аналогичными произведениями Западной Европы. Или в разделе о Бальмонте — о его деятельности в области перевода литовских народных сказок, которые изданными оказались как раз в Латвии.
И, наконец последний, большой фольклористический подвиг Ю.Абызова — издание частушек, собранных И.Фридрихом.
Это издание имеет свою предысторию. С неимоверными трудностями и при постоянной поддержке профессора Ленинградского университета Померанцевой пробивал Фридрих издание своих фольклорных материалов, чему мешала его «неблагонадежность» в глазах чекистов. Первоначальный отказ печатать сборник сказок, а затем и разрешение (после вмешательства в это дело проф. Померанцевой) стоило Фридриху двух инфарктов и преждевременной кончины. Поэтому собиратель уже потерял всякую надежду издать частушки, тем более что в материале, собранном в конце 20-х годов было немало таких записей, которые без сомнения зачислялись бы в антисоветскую пропаганду. Поэтому собиратель смирился с мыслью о том, что его собрание никогда не будет издано, и депонировал его вместе с другими своими архивными материалами в Пушкинском Доме в Ленинграде.
Но вот в новых условиях независимости в Латвии наступила столетняя годовщина самого Фридриха, и Ю.Абызов, как руководитель культурной жизни русских в Латвии, совместно с преподавателями Латвийского университета рьяно взялся за организацию юбилейной конференции, подготовил обстоятельный доклад о художественных особенностях русских народных песен Латгалии, в которых усмотрел явные отголоски латышской народной поэзии, особенно в сиротских свадебных песнях, где мы встречаемся и с желтым песочком, и с зеленой травкой-муравкой, столь характерными для латышских дайн. Доклад будет опубликован в фридриховском сборнике, под эгидой Латвийского университета в ознаменование благодарности собирателю фольклора за|| его столь плодотворную и полезную деятельность на благо развития русской культуры Латвии.
Тогда же возникла мысль о завершении публикации собранных Фридрхом материалов. Историк латышского фольклора М.Виксне информиронала нас, что в 60-е или в 70-е годы сотрудницей Института фольклора, литературы и искусства Академии наук Латвии Ритой Дризуле был составлен сборник частушек Фридриха. Но опубликован он по каким-то неизвестным причинам не был, а куда девалась рукопись, не знает даже сама составительница. Поэтому приходилось работу начниать с начала. Из 15 (или 18) тысяч частушек надо было отобрать 1034 основных по сюжету и содержанию частушек, которые представляли бы разносторонне жизнь, переживания, страдания, радости, взгляды и мнения тех людей, от которых в свое время частушки были записаы.

В систематизации огромного материала фридриховской рукописи Ю.Абызов придерживался в основном традиционной Буслаевско-Бароновской системы «От колыбели до могилы», разумеется, насколько позволяла придерживаться этой системы частушка, которая тему смерти, к примеру, обходит молчанием. Что же касается начального этапа жизни человеческой, то она представлена довольно обстоятельно. Поэтому первый раздел нового сборника «Родители. Дела семейные» (заглавия - все абызовские) представлен 59 частушками о самых разнообразных взаимоотношениях родителей и детей на самых различных ступенях развития. Из этой темы совершенно правомерно выделяется (правда, куда менее пространный, чем в латышских дайнах) раздел, поименованный «Сиротство» с 12 частушками.
Следующий раздел «Работа. Нерадивость» представлен 23 частушками.
Как свидетельствует само заглавие, в этих частушках не столько жалобы на тяжелый, непосильный труд (есть и такие), сколько высмеивание нерадивых работников, которые на печке молотят, «рукава пришивают к одной кофте три недели», прикидываются больным, лишь бы получить от тяти «сороковку».
Раздел «Бедные—богатые» содержит 42 частушки. «Мне не надо дом кирпичный. Был бы душа симпатичный» — кредо многих девиц, авторов и исполнительниц частушек этого раздела. Так же, как и в латышских дайнах, дискутируется проблема «Ты богатый, а я бедна», и наоборот, противопоставление богатства и красоты. В частушках этого раздела немало мотивов, перекликающихся с латышскими свадебным! песнями корения (или «опевания», как их называл первый переводчик дайн Янис Спрогис).
«Гулянье. Ухаживание. Провожание» — один из наиболее пространных разделов, содержит 215 частушек — всю гамму начала и осуществления любовных отношений молодых людей, что, по мнению некоторых историков искусства, является основой и началом художественной лирики. Мотто ко всему разделу — первая частушка: «Не гуляйте девки дюже Чтоб апосле не жалеть». По частушкам этого раздела можно составить эстетический канон красоты. Вот признаки прекрасной девушки: «щечки, что листочки», «глазки, что смородинки», парень любит «...с тым девкам гулять, Которые веселые»; «миленька улыбочка глазкам весело глядишь».
А вот идеал парня: «в души серенькие глазки», «хорошенький забава», «забава — черненькие глазки», «что с красивым погулять», «завлекательные глазки, курносенький носок». «Гулянья» доставляют не только радости и наслаждения: мешают родители, мешают подружки, которые не прочь отбить вожделенного парня. За радостями наступают страдания, льются слезы, раздаются упреки.
А потом снова примирения, снова «гуляния». Исследователь свадебного обряда у русских и латышей, свадебной символики в частушка Фридриха к своему удовольствию найдет и образ жердочек как символа брака (на это указывал уже А.Потебня), взаимоотношения молоды людей: «Хороша забава На том на берегу, Положь, забавочка, жердочку, Я к тебе перебегу».
«Гулянье» немыслимо без «Гармони, балалайки, песни». Так озаглавлен следующий раздел с 34 песнями. Отношение к гармони, песне - неоднозначно. Есть и такие: «Кто в гармонию играет, Избу колом подпирает. А кто песенки поет, Без избы совсем живет». Однако в большей части частушек песня столь значима, что ее хорошее исполнение может решить судьбу девушки.
В разделе «Любовь молодая» всего 29 частушек, зато в следующем «Любовь—страдание» целых 68. В особый раздел «Славушка на девушку» выделены 18 частушек.
В 40 частушках раздела «Какими они видятся» снова представляются разные идеалы красоты молодых людей и по смазлиливому личику, и по наличию карманных часов, и по походке.
68 частушек включены в такой важный раздел как «Измена. Расставание. Разлука», который, как и в песнях разных жанров — от подлинно народной, даже обрядовой до жестокого романса и блатных песен, занимает одно из главных, ведущих мест в песенной тематике.
В 103 песнях, составивших важный раздел, широко представленный и в классических народных песнях разных эпох и регионов, — «Сватанье. Замужняя жизнь. Судьба», нет-нет, а встретится и обрядный мотив: «Зажигай» мамаша, свечку», «вкрадки замуж побяжу», «...нам дадут в руки по свячи, обручать будут кольцом», «Под венцом стою печальна, В руках свечки не сдержать», «на головушке повой».
Из 14 частушек в разделе «Городское» только в одной упоминается Рига. Во всех остальных — Петербург-Питер.
68 частушек включено в раздел «Игровые», 39 — «Дразнилки».
Песни эти сродни латышским свадебным песням корения (или опевания). 17 частушек в разделе «Хулиганские» рассказывают о различных драках, побоищах, столь характерных для латгальских прежних традиций, неоднократно отмечавшихся и этнографами, и литераторами. 17 песен в разделе «Озорные» представляют наиболее приличные частушки из огромного количества тех, которые остались ненапечатанными «для специальных исследований».
91 частушка в разделе «Солдатчина. Война». Главное содержание песен этого раздела — сетования, горькие слезы и рекрута, и оставлемой им любушки. Иронически звучат слова: «придется святой Латви служить». Только в одной частушке реминисценции недавнего прошлого: «Мы с Японией буянили, С Германией идём, Кулаки у нас большие, Мы нигде не пропадём». В нескольких частушках упоминаются дезертиры, в одной — Красная Армия, в которую парень попал «за проклятую за Матрёну».
В завершение сборника — самые интересные разделы с частушками, затрагивающими важные, не утратившие своего политического и идеологического значения. В разделе «Власти и их страсти» 69 частушек. 67 из них — проклятье коммунистам, советской власти, комиссарам и матросам, которые довели Россию до окончательной разрухи, голода и отчаянья. Особый цикл посвящается Ленину и Троцкому, для характеристики которых подбираются самые едкие, самые уничтожающие эпитеты.
Не менее примечательны 25 частушек в разделе «Иностранцы. Иноверцы» и 35 в разделе «Свое —и чужое», посвященные Латвии и России.
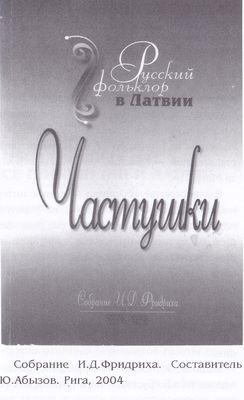 Издание Ю.Абызовым фридриховских
частушек привлекло внимание не только русских, но и латышских рецензентов,
давших ей высе кую оценку.
Издание Ю.Абызовым фридриховских
частушек привлекло внимание не только русских, но и латышских рецензентов,
давших ей высе кую оценку.
Остается только пожалеть, что ограниченное количество экземпляров, сделавших это издание сразу же библиографической редкостью не дало возможности ознакомить русское зарубежье с таким замечательным собранием, к тому же мастерски систематизированным и изданным.







