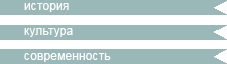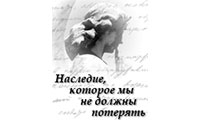РУССКАЯ ФИРМА «ЭРБАУЕР» Нидерзахсверфен 1944-1945
ЗА СВОБОДНУЮ РОССИЮ
Но.18 (38) февраль 2004
==== СООБЩЕНИЯ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НТС НА ВОСТОКЕ США ====
R.Polchaninov, 6 Baxter Ave., New Hyde Park, NY 11040-3909, USA rpolchaninoff@mindspring.com
Про встречу Нового 1945 года у жены было записано в дневнике: «Встречали его тихо, мирно, в домашней обстановке... Выпили по чашке пива – и всё».
От о.Митрофана мы узнали, что в Гудерслебене, в 8 км. от Нидерзахсверфена, в ужасных условиях живут насильно вывезенные из-под Пскова люди. На Новый год, пользуясь внеочередным выходным днём, мы решили их навестить.
В cвоей книге о.Митрофан (позднее епископ) писал: «В лагере Гудерслебен, в одном деревянном бараке и в двух огромных конюшнях, было размещено 500 человек, преимущественно стариков и женщин».
«Земляные полы, трёхярусные нары, отсутствие окон, отсутствие не только бани, но и умывален, полное отсутствие элементарных гигиенических условий и медицинской помощи. Чтобы умыться, освежить лицо и вымыть руки, надо было выходить из барака к колодцу».
«На нарах лежали, вперемежку, здоровые и больные сыпняком и умирающие. Этот лагерь посещал я обычно три, минимум два раза в неделю, совершая молебны, вознося к Престолу Спаса Всемилостивого специальные молитвы о болящих и страждущих, утешая и ободряя несчастных. В каждое посещение приходилось отпевать и хоронить на ближайшем кладбище одного-двух умерших. Зверюга «Лагерфюрер» неоднократно изгонял меня с территории лагеря. Уходя в им открытые двери, я, как говорят, возвращался к несчастным «через окно» (1).
Жена записала в дневнике: «Пришли, и о ужас, что мы там увидели! Люди живут в трёх бараках. Один из них каменный сарай с высоким потолком. До конца – нары сплошные. Посередине разжигают костры. Окон нет. Люди спят на гнилой соломе. Ноги сидящих на нижних нарах утопают в грязи. Сидят согнувшись. Нары сделаны так, что на них можно только лежать. В других бараках не лучше. В одном из них родила женщина. В такой грязи живёт и дышит ребёнок! Кормят плохо. Папирос не дают. Во второй раз мы снесли туда книги, а для новорожденного две рубашки и тапочки. Пришлось горько плакать. Несчастные люди, что они могут сказать в свою защиту?! Переводчицы у них такие же, как и они сами, малообразованные девицы в платочках». Добавлю от себя, что входили мы не через ворота, где бы нас не пропустили, а, не без риска, через дырку в заборе.
В 1945 г. Рождество – 7 января – было воскресным днём. Было богослужение. В дневнике запись: «На Рождество мама испекла крендель, вернее, пекли его в немецкой пекарне. Стоило 2 рубля (20 пфеннигов) Очень многие наши пекли. Немец был злой. Возмущался, что нас много. Вообще к нам стали относиться заметно хуже. Просто хочется поскорее домой».
В Нидерзахсверфене у меня не было времени заниматься школой. Болдырев назначил меня заместителем заведующего Хозяйственной части Венедикта Александровича Косовского (1918-1994). Его полная фамилия была Абданк-Косовский, но он ею не пользовался. Он был родственником известного Владимира Конкордовича Абданк-Косовского (?-1962) первого летописца Русского Зарубежья. В.А.Косовский был у Болдырева заведующим Хозяйственной части в Минске, а затем в Бресте. Не знаю, кто его замещал в Берге, но знаю, что он тогда в Берлине выколачивал из немецких учреждений деньги за постройки, сделанные «Эрбауэром» в Минске и Бресте. В Нидерзахсверфен он прибыл незадлго до прихода американцев. Так, что вся работа в Нидерзахсверфене свалилась на меня.
До прибытия в Нидерзахсверфен второго транспорта, школа вообще не работала, а с прибытием второго транспорта, в школе оказались те же 14 человек детей рабочих и служащих «Эрбауера» от 9 до 12 лет. Занятия были в помещении столовой 5 дней с 8:30 до 11:45 (4 урока с одной переменой) и по субботам 2 урока с 10:15 до 11:45. Я считался заведующим и на мне была ответственность, а учительницей назначили 19-летнюю Лялю Емельянову, бывшую разведчицу в Баня-Луке, преподававшую все предметы, кроме Закона Божия, который преподавал 3 раза в неделю о.Георгий Лукашук. Русский был 5 раз в неделю, немецкий, математика, история России 3 раза, география СССР и пение 2 раза и один раз естествознание.
Подготовка к Рождеству началась сразу после прибытия второго транспорта. Елочные украшения подарила нам одна дама из Чехословакии, но украшений было мало, и я заблаговременно отправился, как мы говорили, «в город» т.е. в ближайший Нордхаузен, на поиски. В Нордхаузене было много магазинов с красивыми витринами, но с пустыми полками. У меня была соответствующая справка от фирмы. Без справки нельзя было купить в магазинах не только тетрадки, но даже и листка бумаги. Никаких ёлочных украшений, конечно, нельзя было достать, но порыскав по городу, мне удалось купить гирлянды из плотной бумаги в виде позолоченных дубовых листьев. Эти гирлянды предназначались для украшения портретов «фюрера». Купил я также и бумажные нацистские флажки, которые продавались для украшения стен. Из позолоченных дубовых листьев мы вырезали рыб, звёздочки и гаральдические лилии (знак организации разведчиков), а из флажков школьники склеили цепи на ёлку.
Жена записала в дневнике: «На елку приглашены были бургомистр и другие немцы. Было несколько выступлений детей, детский хор, пляски. Взрослые спели «Коль славен» и «За землю, за волю, за Новую Россию». Получилось замечательно. Очень хорошо было продекламировано детьми разведческое стихотворение «Наш флаг». Декламировало четверо. Мальчик стоял на табуретке, держал белую полосу флага, следующая девочка – синюю, третья красную и четвёртая все три, стоя на колене. Был и Дед Мороз. Раздавал детям подарки. Дети получали игрушки и гостинцы. Даже моя Милочка получила соску и пакетик печенья. Было много народа. После программы взрослых, не имеющих детей, попросили уйти, а дети остались играть. Слава тоже остался играть с детьми».
Под 21 января у жены запись: «Только что прочла «Тайну Соловков» Бориса Солоневича. Ещё сейчас нахожусь под впечатлением прочитанного. Милая дорогая Родина! Когда то мы сможем вернуться туда? А так надоело здесь! Так хочется домой, но не хочется прежнего. Когда-то русские люди будут по-настоящему свободны и счастливы? Сколько жизней погибло, сколько гибнет сейчас! Боже, помоги, дай силы пережить всё это!».
«К нам стали относиться всё хуже. Вчера выдавали по карточкам рыбу и огурцы, но когда я попросила огурцов, то дали три огрызка, а рыбы совсем не дали».
Недалеко от нашего лагеря, в одной из боковых улиц, был колбасный магазин. Хозяйка, не в пример другим, не была ни чёрствой, ни прижимистой. Когда жена пришла к ней в первый раз за мясом, она ей выбрала кусок пожирнее, отдав его за ту же цену, какую пришлось бы заплатить за постные и жилистые обрезки. Второй раз, когда жена пришла за мясом и попросила кусочек пожирнее, торговка сказала, что такое лакомство даётся только в первый раз, по случаю знакомства с новым покупателем. Такова у немцев традиция. И тут же добавила, что будет давать раз в неделю, жирную воду, остающуюся после варки колбас, по цене 2 марки за порцию.
Вода была не очень жирная, но зато приятно пахла копчёной колбасой, и из нее получался неплохой капустный или гороховый суп. До войны такую воду, разумеется, выливали как помои, но во время войны для иностранцев, живших впроголодь, она играла роль добавочного питания.
Рано утром, за водой из-под колбас выстраивалась длинная очередь иностранцев. Вода отпускалась не в лавке, а во дворе, через калитку, к которой чах-рабочий выносил большой котёл. Он заведовал продажей этой воды, и у него на дне всегда оказывалось не-сколько маленьких обрезков колбасы. Однажды такой кусочек попался и моей жене. Давая его так, чтобы никто не заметил, работник сказал жене: «Йсем чех». Чех старался помочь своим, а для него своими были все иностранцы.
Старались поддержать нас и американцы. Иногда утром, после ночной воздушной тревоги, в поле или в лесу, неподалёку от лагеря можно было найти фальшивые продовольственные карточки. Делались они в США, причём, с такой изумительной точностью, что никто их не мог отличить от настоящих. Одновременно делалось это и с целью расшатать немецкую экономику миллионами фальшивых карточек.
Однажды я нашёл листок с 12 талонами на ¼ литра снятого молока. Это были так называемые «рейзенкартен» (Reisenkarten), т.е. специальные талоны без даты, предназначавшиеся для людей в дороге. В большом городе, где тебя не знают, можно было бы получить мясо или хлеб, но не молоко. Я решил не рисковать, а оставить их себе на память.
В феврале к нам начали прибывать из Берлина семьи заключённых членов НТС: Татьяна Поремская с сыном Алёшей, Анна Александровна Рождественская с дочкой Татьяной, др.Ольга Вениаминовна Брунст с дочкой Иришей, Александра Александровна Оцуп с дочкой Таней, Гога Бонафеде, Галина Михайловна Дерюгина (ур. Геккер) с дочкой Маей (4 года) и сестрой Наташей Геккер (16 лет), проф.Дмитрий Николаевич Вергун с супругой Верой Николаевной и дочками Ксенией и Ириной. Все они сперва поселились в многоквартирном доме, принадлежавшем Шустеру, который был до прихода Гитлера бургомистром Нидерзахсверфена, а потом переехали в отдалённый от лагеря барак, названный «Сахалином». Г.М.Дерюгина вспоминает, что там «мы укрывшись одеялами, слушали по радио английскую передачу»(2).
Мария Евгеньевна Геккер была арестована вместе с мужем, но через несколько дней её отпустили. Она, оставаясь в Берлине, взяла на себя заботу об арестованных, так как у арестованных не было родственников в Берлине. М.Е. Геккер с дочерьми стирала белье арестованных и при передаче заворачивала всё в «Новое слово», чуть затемняя карандашом нужные буквы, сообщая таким образом новости. В бельё вкладывались бутерброды и пачка папирос для проверявшего, и тогда всё проходило гладко (2).
Арестованные были отпущены на поруки ген.Власова 4 апреля (3) и вместе с ними поехала в Нидерзахсверфен и М.Е. Геккер. Освобождённые прибыли в распоряжение ген.Власова в Карлсбад (по чешски Karlovy Vary) 9 апреля. Сотрудник штаба РОА, член НТС Лев Рар, должен был сопровождать В.М.Байдалакова и других освобождённых членов НТС в Нидерзахсверфен. С ними был Михаил Вячеславович Геккер, член РОВСа, сочувствовавший НТС и арестованный по подозрению в причастности к Союзу и его супруга Мария Евгеньевна. В их доме останавливались В.М.Байдалаков, В.Д.Поремский и другие и в их доме была обнаружена союзная литература. Так как члены НТС всячески выгораживали М.В. Геккера, то немецкие следователи решили, что он должен был бы быть одним из самых главных в НТС (2).
Эшелон, в котором ехали освобождённые из берлинской тюрьмы руководители НТС, попал 17 апреля в Пльзене (Plzen) под обстрел союзной авиации. Погибла М.Е.Геккер с дочкой Наташей, Кирилл Дмитриевич Вергун (1907-1945), Юра Жедилягин и многие другие. Ехавший в том же эшелоне полковник РОА К.Кромиади в своей книге «За землю, за волю...» на стр.208-214 подробно описал все ужасы налёта. И он, и В.М. Байдалаков были ранены. В его книге сказано, что в налёте на товарную станцию Пльзень, где среди многочисленных военных составов оказался и эшелон со служащими РОА и членами НТС, приняла участие тысяча бомбовозов, и что налет продолжался 35 минут.
9 марта жена записала в дневнике: «Вчера в пекарне меняла сигареты на хлеб, 20 сигарет - два килограмма хлеба. Несколько раз заходила, - всё кто-нибудь да мешает. По карточкам теперь получаем на один килограмм меньше хлеба, т.е. 5 кг. на месяц, на 250 грамм меньше крупы и на 125 – масла. Хорошо, что есть папиросы, правда, кроме хлеба на них ничего не выменять. Недавно ходила в немецкие деревни пытать счастья. Взяла сто папирос, полотна на большую двуспальную простыню и два полотенца. Мануфактуру не взяли. У них всего вдоволь! Взяли только 20 папирос, за которые дали четыре яичка и два килограмма скверной фасоли.
28 марта. Произошло много неприятного. В фирму посадили немца. Сначала была комиссия, которая ходила по домам и смотрела, кто сидит дома. Смотрели, как работают служащие. Было собрание, на котором немец расспрашивал рабочих и служащих, чем они заняты. Говорил, что если они здоровы, то могут работать и дети и старики. Многих служащих отправили из канцелярии на станцию что-то там грузить. Теперь рабочие должны приходить на работу в 6 утра и работать до 6 вечера с часом на обед, а служащие с 6:30 до 6:00. Со следующего месяца молоко будет только детям до 6 лет». Через несколько строк запись: «Болдырев арестован». Правда, вскоре был освобождён.
«31 марта. Непрерывные тревоги. Бесконечное количество самолётов пролетает над головой. Через газеты немцы объявляют, что если сирены будут гудеть одну минуту – то это обычная воздушная тревога, а если будут гудеть пять минут, то это значит: неприятельский десант, и все немцы должны явиться с оружием отражать врага».
«2 апреля. Доктор Лясковский говорил, что в том лагере, где мы были со Славой – всех косит тиф, брюшной и сыпной. Немцы не обращают никакого внимания и не дают лекарств». Др.Георгий Анатолиевич Лясковский хотел как-то помочь, но немцы не разрешили.
«4 апреля. Фронт неожиданно приблизился к нам. На шоссе тьма немецких беженцев. Жалко смотреть. Идут дети, старики, почти без вещей. Русским сегодня хлеба не давали. Давали только немцам».
Чувствовался конец войны. В лагерь отовсюду приезжали члены НТС, их друзья и родные. Местная группа НТС разными способами давала им знать куда ехать и как нас найти, хотя мы не имели права даже говорить, что живём и работаем в Нидерзахсверфене. Все письма приходили по адресу: Baustelle B 3 B, Nordhausen, Postlagernd (т.е. – до востребования). В Германии никто не имел права, бросив работу, куда-то ехать. Так, например, прислав жену и дочку в лагерь “Эрбауера”, А.А. Цвикевич «дезертировал» с работы инженера в одной фирме в Брауншвейге и, рискуя быть арестованным, прибыл в Нидерзахсверфен. «Опасаясь поисков, он оставался в лагере на нелегальном положении. Ему приходилось с пяти часов утра скрываться на прилегающей к лагерю горе, покрытой лесом, и только при наступлении темноты возвращаться в лагерь. К счастью, это продолжалось недолго, - немцам уже было не до розысков беглецов.
Таким образом почти ежедневно пополнялся лагерь новыми людьми» (4).
Чтобы иностранцам было не так просто бежать с работы, немцы давали им продовольственные карточки только на одну неделю, в то время как немцам, одну карточку на четыре недели.
Но был и еще один случай пополнения лагеря новыми людьми и о нём надо тоже рассказать. Случилось это 8 апреля, за три дня до прихода американцев. Жена записала в своём дневнике: «18 апреля. В соседней деревне был лагерь рабочих. Дней десять назад, незадолго до прихода американцев, немцы выгнали всех вон. Иностранцев отправили в другой лагерь, а русским сказали: ’Откуда пришли туда и идите’. Русские остались без крова и куска хлеба. Бедные русские люди! Чем они провинились? Почему обречены на бесконечные страдания?.
Была чудная погода. Немцы куда-то исчезли. Никто ничего не делал. Мы со Славой решили погулять. Шли по лесу и прямо-таки наслаждались, пока не увидели ужасное зрелище. Несколько плохо сделанных из веток шалашей и костёр. Подойдя ближе, увидели людей, сидящих у костра. Один древний старик с длинной седой бородой, женщины с детьми, один маленький восьмимесячный. Готовили обед из мёрзлой картошки, оставшейся неубранной на поле. Голодные, грязные, измученные физически и нравственно, люди были скорее похожи на зверей.. Никогда не думала, что в таких условиях можно жить. Этот грудной ребёнок должен был есть тот же суп из мёрзлой картошки, потому что мать не имела больше молока, а другого они ничего не имели. Запасов сделать не могли, так как питались, как говорится – ‘из котла’. Мы взяли с собой деда и повели его к Болдыреву просить разрешение поселиться этим людям у нас в недостроенных бараках. С разрешения Болдырева, они все перебрались из леса к нам. Я собрала у наших рабочих картошку в пользу беженцев, хотя нам самим еды не хватало”.
Лесных людей мы назвали “беженцами”. У меня сохранилось объявление: “Беженцы! Сегодня 10 апреля, на кухне от 1 часа до 1 1/2 будет выдача картофельного супа. Хоз. Отдел Р.Полчанинов”. Большего мы не могли сделать. В этот день, нам самим на троих осталось на ужин две картофелины и одна луковица. Трудно сказать, чем бы это всё кончилось, если бы на следующий день не пришли американцы.
К.В.Болдырев в своих воспоминаниях описал один случай, который не грех повторить: «Контакт с заключенными был немцами строжайше запрещён. Но иногда под конвоем в наш лагерь приводили заключённых для исполнения внутренних работ – починок или проводок, и жители нашего лагеря, жалея их, подкармливали их, подсовывали, потихоньку от стражи, папиросы. Среди таких счастливчиков был молодой парень. Звали его Сашка, он был электриком. Был он симпатичным, услужливым и пользовался симпатией в лагере. Всегда настороженный, испуганный, он боялся за свою жизнь. Он был еврей. О нём и его судьбе надо рассказать. Была тёмная безлунная ночь. В маленьком бараке на краю лагеря жила семья Болдыревых и другого сотрудника – Григорович-Барского. Было около девяти часов вечера. В дверь моей квартиры раздался стук. Дверь открыла моя жена. <...> ‘Мы хотим видеть Болдырева’ тихо прозвучал голос. Жена пригласила войти. ‘Мы не можем’, - был ответ. Я вышел сам, плотно закрыв двери. Через несколько минут вернулся. ‘Приготовь мне всё, что возможно, из одежды для троих и всё, что есть из еды’, - сказал я жене и, выходя коротко добавил: ‘Это ‘полосатики’, им надо помочь‘. Я вызвал Барского, и мы исчезли в тёмной пасти ночи. <...> Им нужна была помощь. А эта помощь могла стоить жизни всем” (5). Конечно, жена и дочь не могли заснуть, ожидая возвращения мужа и отца.
“Я вернулся на рассвете, – продолжает К.В.Болдырев – усталый и счастливый. ‘Полосатики’ были переодеты. Им были даны сфабрикованные документы, еда, карта и наставление, куда идти. Идти надо было навстречу приближающимся американцам.
Американская армия была в 70-ти километрах от лагеря. По приходе американцев все три беглеца вернулись целыми и невредимыми в лагерь ДиПи. Один из них был поляк, второй – русский, а третий еврей Сашка. Так, рискуя расстрелом, мы спасли три жизни, жизни незнакомых, неизвестных людей” (5).
Я был одним из тех, кто давал Сашке папиросы. Однажды на кухне испортилось электричество, и к нам привели под конвоем электрика Сашку. Мне хотелось угостить его папиросой и я решился на хитрый ход. Сперва я дал папиросу конвоиру, а когда тот, поблагодарив, закурил, спросил разрешение угостить и электрика. – “Как хотите” – сказал СС-овец, косвенно давая согласие, и повернулся к нам спиной, чтобы не быть свидетелем этого “страшного” правонарушения. “Полосатик” взял папиросу и положил её в портсигар. В коробочке мелькнула зеленая бумажка. “Не концлагерные ли это деньги?” - подумал я и спросил: “Что это у вас за бумажка?” – “Наши лагерные деньги”.
Секунду или меньше я смотрел на бумажку. Я не успел даже прочитать, что было написано по середине крупными буквами, но мне запомнилось, что номинал был указан в правом нижнем углу. Коробочка закрылась. Как мне хотелось, как коллекционеру, тут же приобрести этот лагерный денежный знак! Но конвоир встал, а бедный Сашка торопливо пошёл вперёд, чтобы идти обратно за проволку.
Эти лагерные деньги попались мне ещё раз, уже после прихода американцев, и речь о них будет потом.
Последней работой, выполненной “Эрбауером” для немецких хозяев, была выгрузка каких-то машин. Об этом С.В. Трибух писал: “За день до прихода американцев все трудоспособные жители лагеря были посланы для разгрузки товарного железнодорожного транспорта. Работа была спешной и проходила под наблюдением СС-овцев. Разгрузка закончилась далеко за полночь. Закончив разгрузку вагонов, все работающие получили по пачке сигарет и направились колонной в лагерь с пением русских песен, чем напугали жителей посёлка. Рано утром этим транспортом бежала из Нидерзахсверфена СС-овская охрана” (6).
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Епископ Митрофан. Хроника одной жизни. Москва изд. Св.-Владимирского Братства
1995 С.144.
2. Письмо Г.Сазоновой (ур.Геккер) от 4.02.2004 в архиве автора.
3. Л.Рар и В.Оболенский. Ранние годы (1924-1948). Москва. «Посев» 2003 С.159.
4. С.В.Трибух. Менхегоф – лагерь русских ДиПи 1945-1949. Рукопись. 1988 С.10.
5. К.В.Болдырев. Менхегоф – лагерь перемещённых лиц (Западная Германия). //Вопросы истории. Москва, 1998. Но 7/98. С.119-120.
Считаю своим долгом поблагодарить Галину Михайловну Сазонову (ур.Геккер), Ирину Васильевну Короленко (ур.Брунст) и Михаила Викторовича Монтвилова за помощь в работе над этой статьей.
Р.Полчанинов