Моё светлое детство и юность. Воспоминания
Мне никогда бы не пришло в голову писать дневник или воспоминания, если бы моя дорогая внучка Тата не подарила бы мне на восьмидесятилетие эту красивую книжку, которую она сделала для меня своими руками.

Я уже перешагнула девяностолетний рубеж. Сколь долго ещё Господь продержит меня на этом свете, это лишь в Его ведении. Поэтому решила описать, если успею, хотя бы своё детство и юношеские годы. Частенько, когда я говорю с досадой о каких-то событиях настоящего, внуки замечают, что «теперь другие времена и другая мораль». Я же думаю, что законы морали тысячелетиями одни и те же…
Помню себя примерно с трёхлетнего возраста. Мы жили в доме при школе в Голышево Лудзенского уезда. Отец был назначен учителем ещё в 1912 году, и после Первой мировой войны ему посчастливилось вернуться в свою школу. Школа стояла на краю дороги, напротив неё – храм, почти у самой реки – дом священника. Тогда это был весь мой мир. Школа у самой границы, за рекой – Россия. На том лугу у реки мы с мамой собирали цветочки.
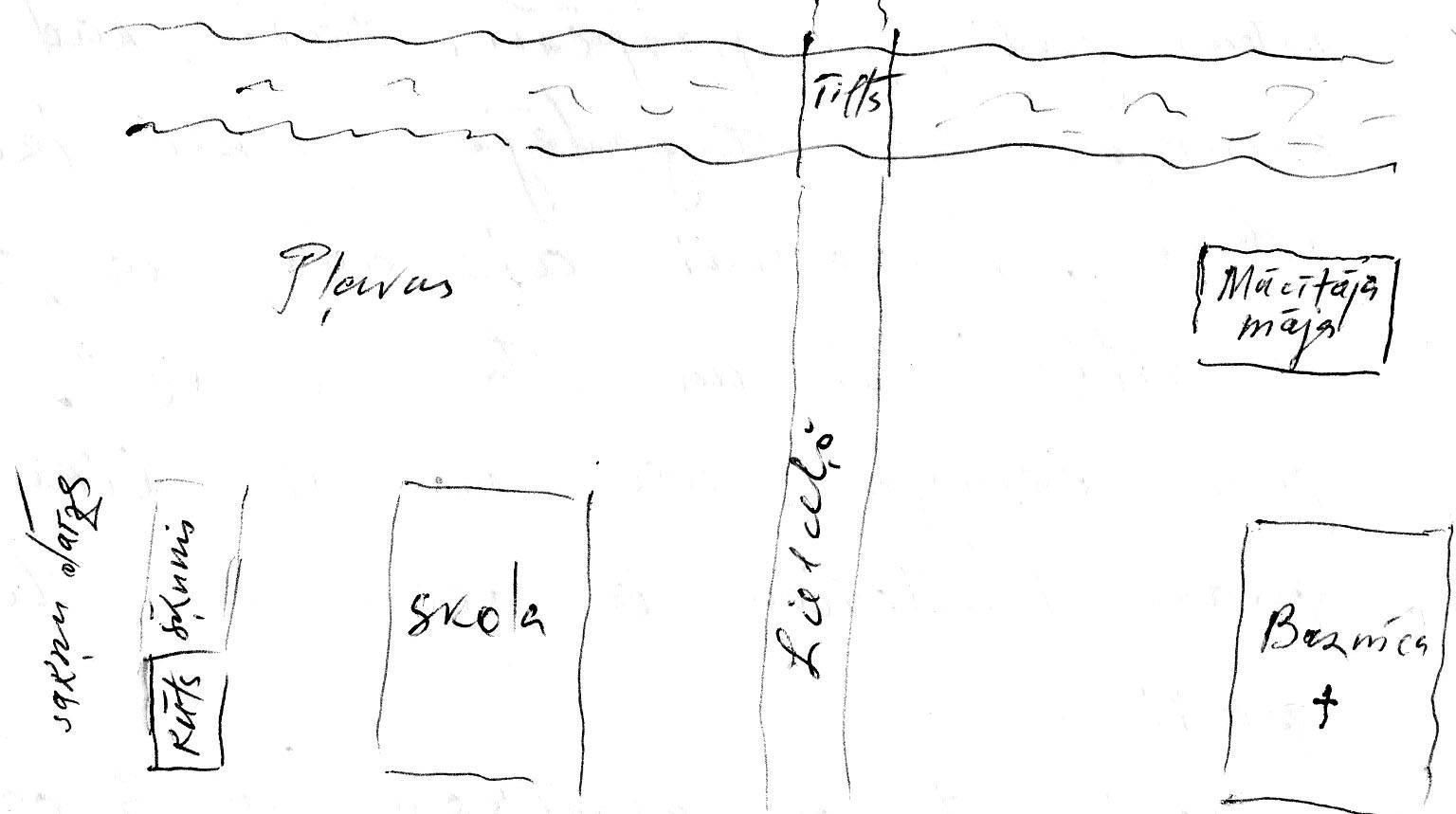
План села Голышево, нарисованный Т.И. Павеле.

Школа в Голышево. Около школы наша семья и двое соседских ребятишек.
Перед храмом была большая площадь. Там каждый вечер пограничники проводили вечернюю молитву. Это мне очень нравилось. Красиво стояли в строю. Пели вечерние молитвы и гимн. А в конце строя обычно (когда не шёл дождь, конечно же) стояли мы, две трёхлетние девочки, я и дочка священника, «взяв под козырёк», хотя такого «козырька» у нас и в помине не было. На голове у меня красовалась белая панама с красными полями. Однажды мы с Верочкой так заигрались, что опоздали на поверку. Бежали ног под собой не чуя, я ещё домой забежала за шляпой с воплем: «Где моя ляпа?» – (видимо, речь моя ещё не установилась). Позже мама мне это рассказала. А ещё рассказала, что пограничники стояли в строю и ожидали нас. Начальник якобы сказал: «Дамы сегодня несколько задерживаются. Надо бы подождать». Во всяком случае, все долго смеялись.
С пограничниками происходили различные забавные истории. Помню, как в лавку привезли много мармелада и во всех домах его ели с хлебом. В нашем доме тоже, одна я этот мармелад в рот не брала, уж очень не нравился мне его цвет, поэтому я его даже и не пробовала. Мама расстраивалась, а я упрямилась. Но вот однажды вечером, по дороге в школу на танцы, к нам заглянул один пограничник и, увидев, что я в очередной раз отказываюсь от мармелада, исправил это мгновенно: зажал меня коленями и ложкой размазал мармелад по лицу. Затем отпустил меня и отправился в танцевальный зал. Смутившись, я спряталась за дверьми, вдоволь там наплакалась и, видно, случайно облизнулась, быстро пошла в зал, нашла этого пограничника и дёрнула его за мундир (он танцевал). Он извинился перед своей дамой и обратился ко мне: «Ну как?» А я отвечаю: «Помажь ещё!» Снова все от души посмеялись. Так я их всех веселила.
Зимой в школе было шумно, летом тихо. Я играла с сыновьями священника. Они были старше меня, но со мной обращались хорошо. Их сестричка, моя подружка Верочка, умерла от дифтерии. Меня тут же отвезли в Карсаву на прививку. Это было моё первое такое длинное путешествие – целых десять километров! Летом у контролёра гостила его родственница, девочка лет семи или восьми. Она приходила ко мне играть почти каждый день. Мы вместе ходили на луг за школой и на ржаное поле собирать васильки, что мне особенно нравилось. Мама позволяла нам ходить только по просеке, чтобы мы не заблудились. Рожь мне казалась высокой-превысокой. Позже, когда я уже подросла, совершала такие прогулки одна. Ржаное поле не было таким уж большим. Потом я не раз видела во сне, как иду по ржаному полю, где тут и там растут васильки, а над полем голубое-голубое небо, и ничего другого не видно, и так хорошо… Это один из моих самых красивых снов, после которого я просыпаюсь с радостью на душе, но теперь я его вижу всё реже.
Есть ещё один странный сон, который я видела в раннем детстве, а теперь больше не вижу. Будто я нахожусь в каком-то закрытом дворе: вокруг белые каменные стены и брошенный дом, вокруг ни души, только птицы щебечут и стрекочут насекомые. А по белой каменной стене вьются красные розы. И надо мной – голубое небо. Странно. Ничего подобного в том возрасте я даже на картинках не видела. Когда я подросла и рассказала свой сон маме, она решила, что я видела посёлок наших далёких предков – крымских татар, которые за антигосударственную деятельность были высланы. У моего деда были даже документы на родовое поместье в Крыму, которое, конечно же, было разрушено во времена революции. Увы, не суждено мне было увидеть землю моих предков, хотя и очень хотелось.
Ярки воспоминания о том, как я впервые выступала на сцене. На исходе был 1921 год и наступал 1922, мне было три года. Это я знаю точно, потому что ещё не родился мой братик (он на четыре года младше). В школе была ёлочка, ставили «живые картины». На сцене на пне сидел мальчик в шубе и меховой шапке, с бородой из пакли и с надписью на груди «1921». Кто-то что-то декламировал. Меня поставили на возвышение. На мне было платьице из белой креповой бумаги (!), на ногах белые носочки, на голове золотая бумажная корона, в распущенных волосах «золотой дождик». На груди у меня надпись «1922». На сцену меня вынесла мама и, когда я сыграла свою «роль», унесла меня в нашу комнату. Очевидно, ни на платьице, ни на туфельки денег не было. Но я была весьма довольна собой, и людям тоже понравилось. Всё это ясно помню до сих пор. Если посмотреть мои детские фотографии, там у меня на ножках самодельные тапочки. А на той фотографии, где родители в пальто, на мне только шерстяная кофточка, а вовсе не пальтишко и ботиночки… Летом в те времена дети и вовсе бегали босиком, туфли или ботинки надевали только в храм. В храм я ходила часто, а если там что-то происходило – венчание или крестины, или даже отпевание – это было своего рода событием.
Куклы у меня были самодельные, но была одна фарфоровая, с белокурыми волосами, которая открывала и закрывала глаза. Отец привез её мне из Риги и положил рядом со мной в мою кроватку. У этой куклы было красивое бельё и красное бархатное платье. Проснувшись утром, я увидела рядом с собой спящее «существо» и воскликнула: «Что это за чужая маленькая девочка в моей кровати?» Куклой и её платьем я очень гордилась, даже брала с собой в храм, пока батюшка мне не сделал замечание, чтобы я так больше не делала. На мой вопрос «почему?» он терпеливо и очень чутко объяснил, что кукла настолько красива, что прихожане смотрят на неё, а не на иконы, и я таким образом отвлекаю их внимание от молитвы. Куклу звали Тамара.

Свято-Троицкий храм в Голышево.

Храм в Голышево. Вид на храм
сегодня.
Как яркое событие вспоминаю приезд в Голышево Архиепископа Иоанна (Поммера). На дороге между школой и церковью построили «почётные ворота». Подъехала двуколка, зазвонили колокола. Архиепископ Иоанн встал напротив ворот. Его встречали местный священник Борис Раман и несколько приехавших батюшек. Помню священника из Карсавы и отца Никанора Трубецкого – по соседству с ним мы впоследствии прожили десять лет. Хлеб да соль Владыке поднёс староста прихода. Потом в храме совершалось торжественное богослужение, затем был обед в доме священника, а позже все батюшки вместе с Архиепископом через сад священника вышли к реке, и он долго смотрел в сторону России. Затем был отъезд Владыки, экипаж полон цветов… И всюду мне надо было присутствовать и всё видеть. Наверное, я всё же чувствовала, насколько это была важная персона. Как святыня хранится в нашем доме фотография Владыки с автографом – он подарил её моему отцу. Больше с Владыкой Иоанном я не встречалась. Когда мы переехали в Ригу, я участвовала в панихиде на даче, где он принял мученическую смерть. Архиепископа зверски убили 12 октября 1934 года.
Я рано научилась читать (в четыре года). Родился братик, и, чтобы я не мешала, отец стал брать меня с собой в класс. Мне следовало сидеть на первой парте рядом с очень аккуратной девочкой, «не вертеться, не болтать и не баловаться». Мне дали грифельную доску. На ней можно было рисовать, а если больше не было места, стирать влажной губкой, подвешенной на шнурке. А иногда я слушала, как отец учит детей. Хотя никто меня не обучал, к середине зимы я уже читала. По моей просьбе мне была выдана книжка, такая же, какая была у других детей. У книжки не было обложки, а также начала и конца, позже я узнала, что она называлась «Живое слово».
В конце зимы приехал инспектор. Отец, между прочим, похвастался, что я умею читать, и рассказал, каким образом я научилась чтению. Инспектор явился во второй половине дня, чтобы уже с самого утра начать проверку. Проверку он начал с меня. Я со своим «Живым словом» подмышкой явилась в учительскую. Инспектор открыл книгу в начале, потом в середине, в конце, затем в разных местах – я всюду читала бегло. Наверное, подумав, что я всё знаю наизусть, он достал книжку с самой верхней полки, какую-то тригонометрию или что-то в этом роде – уж её-то я ни в коем случае не могла выучить наизусть, да и вообще никогда не держала в руках. Но оказалось, что и её я могу осилить. В последующие годы, когда инспектор Отто Янович Свэнне приезжал в школу (позже – в Пудиновскую), он всегда интересовался моими успехами и помогал нашей семье. Он способствовал переводу моего отца на работу в Ригу. Да упокоит Господь душу его …
В старом альбоме есть одна очень интересная и поучительная фотография –групповой снимок на одном из праздников перед домом священника Бориса Рамана. Уважаемые люди, среди гостей – батюшка, несколько пограничников, один из которых кавалер ордена Лачплесиса, моя мама и я. Все дружно вместе, латыши и русские, и очевидно, что нет никакого языкового барьера. Это местная интеллигенция. А как мы празднуем сегодня, и то ли ещё можно ожидать?

В гостях у священника о. Бориса Рамана (сидит на земле 7-й слева) по случаю празднования обретения мощей преподобного Сергия Радонежского (18 июля). Среди сидящих на земле 2-й слева - Илья Асташкевич. Во-2-м ряду сидят (слева направо): 2-й - о. Алексей Будников, 3-я - Александра Асташкевич с дочерью Татьяной, 4-й - о. Александр Вицкоп (из Карсавского храма св. преп. Ефросинии Полоцкой), 7-я - матушка о. А. Вицкопа с дочерью, 8-я матушка о. Никанора Трубецкого - Александра Ивановна, 9-я матушка о. Бориса Рамана Пелагея Григорьевна, 10-й - о. Никанор Трубецкой. На празднике присутствуют также латвийские пограничники. Фото 1920 или 1921 год.
Помню один приём у батюшки в Пудиново. Туда мы отправились всей семьёй, взяли даже маленького братика, которому было всего несколько месяцев от роду. Поездка в гости, да ещё и в повозке, запряжённой лошадьми, – это очень здорово! Зато я там сильно оскандалилась перед всем обществом. Мне дали молока в стеклянном стакане, я очень боялась его разбить, потому что дома всегда пила из кружечки. Чтобы ничего не произошло, я так сильно вцепилась зубами в стакан, что откусила кусок от него. Поднялась паника, взрослые испугались, не проглотила ли я кусок стекла… В общем, испортили мне весь праздник!
К моей маме часто обращались женщины с разными вопросами, особенно пожилые. У них всегда что-то болело: то голова, то ноги и руки, и мама специально для них держала маленькую аптечку, потому что ближайшая аптека находилась в десяти километрах от нашего дома. Ещё приходили молоденькие девушки за советом по пошиву платья. Мама показывала им журнал мод с красивыми картинками, которые и я с удовольствием рассматривала. Иногда надо было помочь сделать выкройку.
Но особенно мне нравилось, когда маму приглашали одеть невесту. Это было целое представление! Сначала невесте делали локоны. Щипцы нагревали на стекле керосиновой лампы (позже такие щипцы я подарила музею). Потом делали высокую кичку. Затем надевали фату, а на фату миртовый венок. В нашем саду рос большой куст мирта, с которого и срезали веточки для венка. Я только не понимала, почему за веточками мирта надо было приходить именно к нам, почему девушки не выращивали его сами? Мама объяснила, что мирт не растёт в любом доме. Всегда меня что-то удивляло.
Отца тоже приглашали по разным случаям, но он меня так часто, как мама, не брал с собой. Однажды я ходила вместе с ним в дом, где был покойник. Умер какой-то почтенный хозяин, и отца пригласили почитать Псалтирь. Почивший лежал в гробу в клети, украшенной берёзками. Отец встал у гроба и начал читать. Он читал довольно долго. За это время хозяйская дочка показала мне весь дом и всё хозяйство – сарай, хлев, сад, ульи и прочее. Мне всё было интересно, ведь у нас дома было всё по-другому.
В нашем хозяйстве был небольшой огород и несколько клумб, сенной сарай и хлев, где стояла корова, обитали поросёнок и куры. Корова была очень красивая, белая, с коричневыми пятнами, большая, с широкой спиной. Иногда отец сажал меня на корову, и я как будто «скакала верхом», отец меня, конечно же, придерживал. Моей тайной мечтой было скакать верхом по-настоящему, но я боялась коней, между тем пограничники нередко предлагали покататься на них. Нашу корову звали Паненка (по-польски и по-белорусски – барышня). Её купили у барона Фредерикса.
Этого барона я хорошо помню: он приходил к нам домой, такой высокий, стройный, во френче и галифе. Позже, когда я уже подросла, узнала, что дядя этого барона был министром при дворе царя Николая II. Он отправился за царём, и был убит вместе со своим Государем. Наш знакомый, молодой барон, остался в живых только благодаря тому, что во время революции находился в своей усадьбе, недалеко от Голышево. По эту сторону реки, на нашей стороне, около деревни Лямоново (там тоже была школа), у него была небольшая усадьба с хорошим домашним скотом, за которым смотрела скотница. Так уж случилось, что его большая усадьба оказалась в Советской России, а малая со всем скотным двором (фольварк) – в Латвии. По счастью, в те смутные времена, когда решался вопрос с границей, барон оказался в малой усадьбе. Так он остался в Латвии. Он чувствовал себя «выброшенным за борт», нигде не работал и жил мало-мальски прилично лишь благодаря умениям скотницы вести хозяйство. Были в нашей округе и другие помещики, они или устроились на работу, или кормились со своей земли.
Мой мир был весьма мал – школа, храм и дом священника, отца Бориса Рамана. Здесь я передвигалась свободно, но ходить дальше одной мне запрещали. Вместе с мамой посещали лавку, что была в селе Борисовка, в километре от нас. Там же находилась квартира контролёра, мама дружила с его супругой. К одному из хозяев Борисовки мы по субботам ходили в баню. Там был большой сад со множеством фруктовых деревьев, кустов и цветов. Мне всегда давали цветы с собой. Особенно нравился большой розовый куст перед домом.
Помню первый Иванов день, в котором я принимала участие. Его справляли в Борисовке. Мне, конечно же, больше всего понравились горящие бочки и то, как все прыгали через костер.
Из Голышево мы уехали, когда мне было шесть лет. И до 1950 года я там не была. Когда по дороге из Пскова после посещения Пушкинских мест, мы въехали на территорию Латвии (через реку по мосту), наш водитель объявил, что автобусу необходим небольшой ремонт, поэтому целый час мы можем отдыхать. Я не знала, где мы находимся, но место казалось удивительно знакомым: храм, напротив него – школа, большак, на школе – вывеска «Айзгаршская шестиклассная основная школа». Я поняла, что нахожусь в Голышево. Его переименовали в Айзгарши во времена Карлиса Улманиса, когда всё старались называть латышскими именами.
Однако чего-то здесь не хватало, что-то было уже другим, не изменился только храм. Школа лишилась двух стеклянных веранд. Не было больше дома священника, на его месте какой-то колхозник построил своё невзрачное жилище. Дом священника якобы сгорел во время войны. Стало грустно. Отвела своего сына Андрея к реке, показала свой красивый луг, мы обошли вокруг школы и храма, разыскали могилы священника и его матушки. Но в моей памяти были не Айзгарши, а Голышево моего далёкого детства, и я словно видела себя совсем маленькой, идущей по своему чудесному лугу и по меже ржаного поля, а над моей головой склонялись колосья.
Один год мы жили в Деглевской школе. Она была немного меньше Голышевской, но здание такое же красивое, построенное по такому же проекту, с просторными классами, с детским общежитием и квартирой для учителя. Нашей семье была выделена одна комната, вторая была для заведующего школой, которого звали библейским именем Лука Моисеевич, и ещё одна – учительская.
Помню, как переезжали со всем своим имуществом на четырёх повозках. Было начало лета, по дороге собирали землянику. Школу окружал весьма большой сад, недалеко располагалась деревня Деглево, а вокруг – леса и болота. Недалеко находилось известное болото Крейчу, в связи с которым рассказывали всякие страшные истории про грабителей.
Нам очень не хватало храма, недоставало того приятного общества, к которому мы очень привыкли. Кроме леса, пойти было некуда. Но в лес ходили только мы вдвоём с отцом, или же отец один – по грибы. Зато грибов там росло хоть косой коси. Никогда в жизни в нашем доме не было так много солёных, маринованных, сушёных грибов. Сушёные боровики – связками; мама пекла пироги с грибами, ели картошку со шпеком и грибным соусом, малюсенькие маринованные боровички подавали к праздничному столу. Но что за праздник без колокольного звона и без богослужения, без гостей?! А гости здесь бывали весьма редко…
Здесь я пошла в школу уже как ученица, а не как «вольнослушательница». У меня было несколько подруг, они жили неподалёку. С подругами мы не только играли, но и занимались серьёзными делами. Особенно мне нравилась весенняя толока, когда вычищали хлева. В ней я принимала активное участие.
Как-то моя подружка зашла за мной и попросила у мамы, чтобы мне позволили остаться у них на весь день. Нам надо будет везти навоз из хлева на поле, вот когда можно вдоволь накататься на лошадях! Лошадь нам дали спокойную, не норовистую. И мы целый день мерили расстояние от хлева до поля: туда –пешком, обратно – на лошади, сидя в телеге на старом одеяле. Мы подходили к делу очень серьёзно и с полной ответственностью.
Навоз из хлева вычищали мужчины, на поле тоже было несколько мужиков; они выгружали навоз из телеги, а женщины аккуратно разравнивали его по полю. «Чудесный» запах никого не беспокоил. Как проходил обед, не помню, а ужин помню очень хорошо, поскольку это был целый аттракцион. Вечером, когда хлева были уже вычищены (их, насколько я помню, было несколько – отдельно для лошадей, коров и свиней), все во дворе тщательно мылись. Парни обливали водой девушек, которые с визгом разбегались. Все смеялись, настроение было приподнятым. А я была разочарована, ведь на меня никто не опрокинул ведро воды, и я одна из немногих представительниц женского пола осталась сухой. Затем все ужинали, и, как в те времена было принято, за столом было тихо. Из еды помню дымящуюся картошку в больших глиняных мисках и в таких же мисках – творог, в котором посередине, как начинка, лежало масло. Для меня это было что-то новое; в тот же вечер, поведав обо всём маме, я сказала, что нам тоже надо сделать такой же творожный шар с маслом посередине.
Так в Деглево у нас и проходило время. Два лета и зиму мы провели там, затем отца назначили в Пудиново заведующим 6-классной основной школой. В Пудиново мы прожили десять лет до переезда в Ригу. Сама школа находилась в поселке Михалово, что в полукилометре от Пудиново. План местности был примерно таким же, как и в Голышево.

Посёлок Михалово.
Здание школы было совсем невзрачным. Его на церковной земле построил священник отец Никанор. Наверное, строил в спешке, потому что пол даже не был обработан и покрашен. В нашей квартире имелось две комнаты (одна из них считалась учительской) и маленькая кухонька с великолепной русской печью, в которой можно было приготовить такие чудеса, которые невозможны в других духовках.
Именно в этой простой школе прошли мои сознательные детские годы, моё чудесное детство. И пусть у нас не было ни кино, ни телевизора, ни радио и ни телефона, я считаю, что в детстве была намного богаче своих внуков. Сколько красоты нам дала одна только река, окрестные поля, леса и рощи…

Михаловский храм и сторожка. 1930 год.
Посёлок Михалово тогда состоял из храма, кладбища, со сторожкой и очень красивой, белой часовней, дома священника, со многими подсобными постройками и большой ригой, и школы. Между домом священника и школой была большая площадка, опоясанная земляным валом и рвом. Когда-то здесь хотели сделать кладбище, но этого не произошло, и площадку использовали для игр и праздничных сборищ. Деревья стояли по периметру, несколько фруктовых деревьев росло у дома священника.
Недалеко от реки, на обочине дороги, стояло Распятие. По праздникам девушки повязывали Христу широкую вышитую ленту с кружевами.
Немного поодаль, по пути в Голышево, в ту пору находилась латышская школа, а напротив неё – очень богатый дом, в котором жил Иван Иванович Иванов. Это была богатая усадьба с большим фруктовым садом и настоящим парком, с дорожками, множеством хозяйственных построек, с мостками на реке и лодкой. В этом гостеприимном доме мы часто бывали. Лавка, в которой можно было приобрести всякую всячину, находилась уже в Пудиново, за мостом.
Раньше школа находилась в каком-то сельском доме, в ней были только четыре класса, все классы учились в одном помещении. Затем открыли новую школу, шестиклассную. Отца инспектор ценил как хорошего педагога и хорошего организатора. И, надо сказать, мой отец и впрямь сделал школу одной из лучших в Лудзенском уезде. Мама тоже смогла начать работать, поскольку братик подрос, и у нас здесь была даже прислуга. Вообще наше материальное положение существенно улучшилось: помимо коровы, поросёнка и кур, у нас была даже лошадка.
Пудиновскую школу я окончила в четырнадцать лет и поступила в Лудзенскую русскую гимназию, но это уже другая история.
Здешнее общество состояло из пяти учителей нашей школы и латышской. В трёх километрах располагались почта и волостное правление, аптека. Но самая активная жизнь происходила в доме священника, отца Никанора Трубецкого. У него было десять детей, старшие уже окончили школу, двое изучали теологию (один в Париже, в Духовной академии). С двумя младшими я ходила в школу и играла. Все сыновья батюшки стали священнослужителями, были участниками Псковской миссии и в советские времена хлебнули лиха в Гулаге.
Особо оживленно в доме батюшки было по праздникам, когда приезжали на каникулы все дети. Батюшкины домочадцы хорошо пели (сын и дочь окончили консерваторию), и когда к ним присоединялись ещё и наши голоса, получался великолепный хор.
Храм в Михалово был освящён в честь Покрова Пресвятой Богородицы, но здесь очень почитался праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Каждый год 12 июля (по новому стилю) в Михалово съезжалась почти половина Латгалии. Уже накануне из Лудзы и Карсавы приезжали лавочники, ставили по обочинам дороги ларьки, в день праздника их торговля шла бойко до самого вечера. К этому времени сено уже было скошено и убрано в сараи, луга вдоль реки стояли чистые, там оставляли лошадей и телеги, поскольку возле храма места всем не хватало. По дороге прогуливалось множество людей. Все в самых лучших нарядах. Девушки к этому дню специально шили себе платья. Но кульминацией праздника, конечно же, было богослужение в храме и крестный ход. Приезжало много священников, в том числе и из Риги. Не раз видела здесь ректора Рижской Духовной семинарии отца Иоанна Янсонса.
Богослужение красивое, торжественное, чудесно пел хор, потому что на клиросе собирались все голосистые дети священников и их друзья. Сотни свечей, в храме полным-полно народу. Всем места не хватало, поэтому стояли во дворе и оттуда следили за службой. Окна храма были открыты, и всё слышно. Особо впечатлял крестный ход. После того, как обходили храм, крестный ход отправлялся на кладбище. В маленькой часовне служили панихиду, затем шли к Распятию. Там тоже служили. Отец Никанор обладал чудесным свойством не разделять христиан по конфессиям, помогая всем, кто к нему обращался.
Праздничная торговля и прочая кутерьма продолжались до вечера. Народ постарше уже после торжественного богослужения отправлялся домой и праздновал дома, а молодежь ещё долго крутилась в ожидании бала. Обычно он проходил на лугу у реки. Площадку ограждали берёзками. Играл пожарный духовой оркестр. Танцевали вальсы, польку, танго и фокстрот.
Один из праздников святых апостолов Петра и Павла произвёл на меня неизгладимое впечатление. В тот год стояло жаркое лето, долго не было дождя, не один хозяин заходил к нам и спрашивал у отца: «Илья Иванович, что показывает ваш барон?», так они называли барометр. Когда отец им говорил, что барометр до сих пор не падает и дождь не ожидается, они тяжело вздыхали со словами: «Если так продолжится, наступит голод…» Наконец стали просить священника отслужить молебен, чтобы Бог послал влагу. После воскресного богослужения батюшка сказал: «Теперь помолимся Богу, чтобы даровал нам дождь». Все как один, от мала до велика, встали на колени с зажжёнными свечами. Женщины плакали. Слёзы на глазах были и у многих мужчин. Так весь молебен простояли на коленях, затем взяли хоругви, иконы – и вышли крестным ходом. Обошли, как всегда, три раза храм, вышли на дорогу и остановились на пути в Голышево. Тем летом на ниве росла рожь. Священник и здесь прочитал несколько молитв, окропив святой водой поле и все четыре стороны света. К вечеру пошёл дождь…
А теперь про школу. Занятия начинались общей утренней молитвой, в которой участвовали все учащиеся и учителя. Все вместе пели «Царю Небесный». У каждого класса было отдельное помещение. В одном очень большом, которое использовали и как зал, занимались два класса: обычно одному задавали письменную работу, а потом менялись. Некоторые школьники жили в интернате всю неделю и только по субботам шли домой. Еду готовили сами, на школьной кухне варили картошку и жарили сало с луком. Никаких автобусов в то время не было, и, само собой разумеется, наши «дальние» были вынуждены ходить пешком. Пять-шесть километров ничего не значили.
Не помню, в каком году был неурожай из-за дождей и наводнения. Разлилась река, поля стояли в воде, затопило дороги. Многие дети не попадали в школу, а интернатские – домой. Требовалось организовать помощь, поскольку некоторые семьи от наводнения сильно пострадали. И тогда в школу доставили большой жестяной бак, который каждый день снизу мелкой щепкой «растапливали», как самовар. Все дети получали горячий чай. С чаем грызли бублики, которые привозили в большом количестве и подрумянивали в печи. Несколько раз родительский совет обсуждал с отцом, как помочь нуждающимся. В один из дней с некоторых детей сняли мерки, а потом председатель родительского совета Матвей Иванович подъехал к школе на санях, нагруженных большими мешками. В них были курточки и ботинки на шнурках. Ребята подходили по списку, и Матвей Иванович выдавал им вещи. Такие акции проходили несколько раз.
О том наводнении помню ещё, как в один прекрасный день на школьный двор прискакал верхом молодой парень. Вместе с ним на лошади сидели дети, то ли пять, то ли шесть. Всех этот вид чрезвычайно умилил, а парень пояснил, что на телеге невозможно проехать, только верхом…
Отец преподавал русский язык. Классиков русской литературы мы знали великолепно, а по правописанию он нас вымуштровал так, что до сих пор моя рука автоматически пишет правильно, хотя правил я уже не помню.
Мой папа был не только хороший организатор и учитель, но и, что весьма важно, прекрасный воспитатель. Его уважали все – коллеги, дети и их родители. Благодаря его усилиям все много читали, он имел к детям подход, умел посоветовать материал для чтения и увлечь. Помимо русского и литературы он преподавал и другие предметы, но особо интересными были его уроки пения. Отец сам хорошо пел и играл на скрипке. Он создал сильный ученический хор, который выступал не только на школьных праздниках, но и перед широкой публикой на праздниках Дней русской культуры, пел в храме на Рождественском и Пасхальном богослужениях.
В то время храм был местом, где собирались земляки. И старшее поколение со слезами на глазах смотрело на молящихся детей. Обычно на Рождество «профессиональный» хор пел на клиросе справа, а учащиеся стояли у левого клироса (все на клиросе не могли поместиться) и пели попеременно, нисколько не уступая взрослым певчим.
С ежегодной проверкой школы приезжал инспектор Отто Янович Свэнне, обычно на два дня. Приезжал с одним и тем же извозчиком, который ночевал у нас же в каком-нибудь классе. Интересны были показательные уроки, когда приезжало много учителей, а урок вёл кто-то из наших. Затем эти уроки анализировали, а в конце проходили общие посиделки.
На Рождество почти все классные помещения освобождали, парты ставили вдоль стены. Разучивали песни, стихи, готовили какую-нибудь постановку, которую увлечённо играли на радость родителям. Пьесу ставил мой отец, он также гримировал «актёров», а парики брали напрокат у лудзенского парикмахера Друяна.
Постановкой пьес или водевилей увлекались и учителя. Иногда зимой они устраивали благотворительные вечера, чтобы заработать на нужды школы. Тогда на афише сообщалось, что в школьном помещении состоится благотворительный вечер. Указывалось название пьесы, имена исполнителей и в конце, – что парики получены от Друяна. Это была для него хорошая реклама. Затем были танцы, сыпалось конфетти, работала «почта Амура». Играл оркестр народных инструментов, и я в нём играла на гитаре. Но это так, между прочим.
Продолжу о Рождестве. Посередине большого класса стояла великолепно украшенная, до самого потолка, ёлка, которую привозил из леса кто-нибудь из родителей. На неё вешали не только обычные бьющиеся игрушки, но и самодельные, которые изготавливали перед праздником на уроках ручного труда. По нижним ветвям неизменно шла гирлянда, склеенная из глянцевой бумаги. Вокруг ёлочки водили хороводы и играли.
У нас в квартире (то есть в учительской) стояла ёлочка поменьше. Мы её наряжали с братом сами, отец только украшал верхние ветки и укреплял на макушке звезду. Рождественская программа была примерно такая: мама что-нибудь готовила на кухне, отец ей помогал. Это происходило 6 января. С наступлением темноты приходили ребятишки со звездой славить Христа. Большая звезда на шесте, посередине неё сделан фонарик с горящей свечой внутри. Четверо-пятеро мальчиков заходили в дом и пели Рождественские песнопения, «Рождество Твое, Христе Боже наш» и другие. Отец давал им денежку, а мама – свежеиспечённые булочки, пирожки, печенье. Столько, чтобы всем хватило.
Вечером нас отправляли на улицу встречать первую звезду. Когда мы сообщали, что звезда показалась, звали ужинать. Как всегда, стол был накрыт белой льняной скатертью, под ней было постлано сено. Еда, как уж в посту, – никакого мяса, только винегрет из свёклы, селёдка с горячей картошкой, грибочки, на сладкое – рисовая каша с компотом.
После ужина нам было велено прилечь и попробовать заснуть, что мы обычно и старались сделать, потому что знали, что будет потом. В полночь начинали звонить колокола, и мы с мамой отправлялись в храм. Отец уходил туда уже раньше, потому что ему нужно было подготовить ученический хор. Богослужение торжественное. Но уже сама дорога в храм необычная. На небе сияют неисчислимые звезды. Блестит снег. Вокруг тишина и покой, который изредка нарушает звон бубенцов подъезжающих к храму прихожан. Лошадей привязывают неподалеку. Тихая ночь, святая ночь…
Из храма с богослужения мы возвращались примерно в два часа ночи и садились уже за праздничный стол. Праздничные блюда из русской печи вынимали ещё горячие. Посередине стола стояло большое блюдо с квашеной капустой, по краям которой были разложены самодельные колбаски. Свекольный салат, маринованные боровички и другая холодная закуска. Только на Рождество мама готовила так называемую руладу – фаршированный слоёный свиной желудок, который был не только вкусным, но и выглядел аппетитно. Отец пил самодельное пиво, мы – горячий чай. К нему подавали пироги с капустой или грибами, ватрушки, сладкое печенье и компот.
Затем снова ложились спать. Когда вставали, было уже светло. 7 января начиналось хождение из дома в дом и поздравления. Сначала с визитом шли мужчины, дамы сидели дома и принимали гостей. Затем молодые дамы посещали старших, а потом уже и те выходили с визитами. Ёлочку зажигали 7 января вечером, но иногда ещё и 8 января, наверное, потому, что тогда приходили в гости дети соседей – священника и учителей.
В моей памяти осталось, как мы зажигали ёлочку в доме священника. Это было днём. Взрослые сидели в столовой за столом и угощались, среди них были и мои родители. Мы веселились у ёлки. Когда все свечки уже сгорели, и оказалось, что в доме их больше нет, мы решили сбегать в храм и выпросить у сторожа огарки. Сторож дядя Костя был мужчина средних лет, блондин, с вьющимися волосами и закрученными усами. Особенно эффектно он смотрелся в тёплую погоду – в розовой рубашке, с чёрным поясом с кистями, в чёрных брюках и сапогах со скрипом. Когда он через весь храм нёс в алтарь медный, до блеска начищенный кувшин с тёплой водой для теплоты, было на что посмотреть! Мой маленький братик, когда его спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал: «Хочу стать дядей Костей!».
Когда мы всей оравой подбежали к церковной ограде, дядя Костя как раз запирал храм. В нашей просьбе дать нам огарки он отказал. Сказал, что больше не будет отпирать храм, что у него уже нет времени, ключ надо отдать священнику и прочее. Началось безуспешное нытьё. Расстроенный таким отношением дяди Кости к детям, Павел, младший сын священника и мой одноклассник, обозвал дядю Костю скупердяем и начал дразниться.
Мы стояли за железными воротами храма. Павлушка показал дяде Косте язык и при этом случайно коснулся железа. Был довольно крепкий мороз, и язык словно прирос. Мальчик стал плакать, но язык оторвать боялся. Ребята постарше сообразили, в чём дело, велели стоять и не двигаться, иначе совсем без языка останется, а они сбегают в дом за горячей водой. Я побежала с ними. Самая старшая девочка схватила литровую кружку и налила из самовара воды. Мы, друг дружку перебивая, бессвязно рассказали взрослым, что Павлушкин язык примёрз и его необходимо разморозить. С кипятком в кружке помчались обратно и вылили уже поостывшую воду на язык. Дядя Костя всё же дал нам горсть огарков, хотя потом, конечно же, пожаловался священнику, и мы получили хороший нагоняй от батюшки и его супруги.
Такими были наши зимние забавы. Река замёрзла, её замело, к опорам моста намело целые сугробы. Мальчишки прыгают в эти сугробы с моста, зовут и меня, но я боюсь, что лёд может проломиться, и не иду. Тогда они находят для прыжков ещё лучшее место – ров возле праздничной площадки, к тому же со стороны риги: ни из дома священника, ни из окон школы нас не видно. Великолепные прыжки, словно в пуховые подушки! Но я, маленькая и лёгкая, прыгаю и утопаю в снегу так, что сама выкарабкаться не могу. Меня надо вытаскивать. Просто смех да веселье! Но вот несчастье – в снегу потерялись мои галоши. В то время девочки не ходили в брюках и таких сапогах, как теперь. На мне были тёплые вязаные шерстяные чулки, ботинки со шнурками и галоши. Что делать? Надо идти за лопатой. Лопату мне просто так не дают, спрашивают, зачем. Я отвечаю, что, когда бегала, галоши в снегу потеряла, надо откопать. Мне дают лопату, но и младшего братика посылают со мной, он всю правду и рассказывает. Розги я не получила, меня вообще не драли, хватило и устных наставлений. Да я и сама всполошилась, что останусь без галош. Но всё обошлось.
Вспоминаются и другие забавы, например, катание на больших санках с банной горки. Усаживались плотно – впереди самый большой и умный парнишка, тот, что будет рулить, посередине малышня, сзади опять большой мальчик – он будет разгоняться и на ходу запрыгивать в санки. Дух захватывает! Банная горка – вдали от построек, взрослые её не видят, а мы съезжаем в сторону реки. Баня стоит на высоком берегу, и у нас такой мощный разгон, что катимся через всю реку на противоположный берег. Только там понимаем, что проехали по проруби, которую никто и не заметил.
А в один прекрасный, солнечный, зимний день друзья позвали меня посмотреть, какие причудливые формы образовались под склоном берега. Действительно красиво – сосульки замерзли самым фантастическим образом. Решили из них сделать музей. Мальчики из дома притащили большие сани, и мы погрузили на них ледяные фигуры. Но тут пришёл батюшкин прислужник и закричал, чтобы мы срочно тянули сани домой, потому что священника вызвали к больному; что надо запрягать лошадь, а сани пропали; что мальчишки только на одно только баловство и способны; что как глупо сани нагружать льдинами… И вывалил всё наше богатство на землю! Мальчики потом, когда священник вернулся домой, получили розги. Но всё же эти ледяные фигурки они позже притащили домой и со мной поделились. Я перед окном устроила выставку, и она долго там красовалась, пока не растаяла.
Мне довелось познакомиться с первым радио. Заведующий латышской школой приобрел радиоаппарат. Пошли его послушать. Аппарат был с наушниками. Всем наушников не хватило, слушали по очереди. Но прошло совсем немного времени, и мой отец привёз большой аппарат фабрики «ВЭФ», и у нас каждый день была музыка. Позже протянули и телефон.
Очень забавным было кино. Однажды в школу явился какой-то человек и предложил показать кино. Билеты дешёвые, но, поскольку в школе более ста детей, ему хватает, и он готов оказать свои услуги. Нужен один мальчик – помочь. Отец выбрал мальчика, который достаточно проворно разбирался в различных конструкциях и даже в своё время поставил мельницу на ручье, которая всем на удивление действовала без перебоя. Мальчик помогал «киношнику» клеить и перематывать плёнку, а также обслуживать киноаппарат, который надо было крутить рукой. Все фильмы были очень короткими, главным образом научно-популярные, но были также и короткометражные художественные фильмы. Так я впервые увидела Чарли Чаплина и с того времени до сих пор являюсь почитательницей его таланта. Дядя с кино пробыл у нас два дня. В настоящий кинотеатр я впервые попала уже в гимназии, в Лудзе. Показывали, конечно же, немой фильм, но всё время звучала музыка – без устали играл тапёр.
В Карсаве бывали постановки Театра русской драмы, и мне довелось посмотреть и водевили, и трагедии. Одним актёром все восхищались, мне тоже он очень нравился. Это был выдающийся Юрий Юровский, в то время ещё молодой и очень красивый. Мне тогда было лет тринадцать.
Ближе к весне на уроках пения разучивали песнопения: как на Рождество, так и на Пасху ученический хор пел попеременно с взрослым. Но ещё до Пасхи, во время Великого поста, все вместе организованно ходили в храм. Мне очень нравились великопостные службы, когда мы по классам стояли рядами, слушали, как батюшка читает молитву святого Ефрема Сирина, и все вместе (батюшка, взрослые и дети) клали земные поклоны после каждого стиха. Молитва святого Ефрема Сирина затронула не только моё сердце. Позже, когда я уже училась в средней школе, прочла стихотворение Пушкина, которое стало моим любимым. Сама молитва звучит так:
«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».
А вот стихотворение А.С.Пушкина:
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Красивой и трогательной были также общая исповедь и Святое Причастие. Я очень ждала богослужения на Страстной неделе, особенно чтения Двенадцати Евангелий в четверг вечером, когда каждый старался донести до дома свою зажжённую свечу: в темноте на дороге можно было видеть движение множества огоньков. И крестный ход в Великую Пятницу, когда со свечами в руках мы шли траурным шествием за распятым Христом.
И наконец Пасха. За два-три дня начиналась такая подготовка, какой я в своей жизни больше и не видела: яйца красили, куличи пекли. Мне тогда приходилось взбивать бесконечное множество яиц: пекли торт, в который клали их почти двадцать штук, ставили куличи, варили творожную пасху. Моей пенсии сейчас не хватило бы и на половину того, что готовили на один праздник тогда. Особо занимались куличами. Тесто для них раскладывали в высокие эмалированные кружки примерно на один литр, при выпечке куличи поднимались, и из печи их доставали высотой около сорока сантиметров «с шапочкой». Куличи аккуратно кутали в подушки, чтобы они остывали медленно, а нас перед этим выгоняли во двор, потому что нельзя было ни шуметь, ни бегать, и, главное, не хлопать дверьми, иначе куличи опустятся, и весь труд пропадет даром. Можем ли мы теперь приготовить такой кулич?
Ответственным делом было также запекать окорок. Но, как я уже говорила, в русской печи всё можно было приготовить на высшем уровне. Праздничный стол того времени выглядел очень богатым и пышным, сейчас такому можно только дивиться на картинах и старинных открытках.
Так же, как и на Рождество, домой из храма возвращались около двух часов ночи. Пышный праздничный стол к тому времени уже был накрыт. Ожидали батюшку. Он обычно после храма сразу шёл к нам вместе с псаломщиком Николаем Ивановичем и сыном-семинаристом. Служили небольшой молебен, святой водой кропили праздничные яства. Затем все садились за стол разговляться. Долго за столом не задерживались, какой-то часок. Когда псаломщик Николай Иванович выпивал рюмочку водки и исполнял песню «Звёзды мои, звёздочки», батюшка вставал из-за стола и собирался домой. Мой отец провожал его, чтобы поздравить его супругу. И так было из года в год. За столом сидели до тех пор, пока Николай Иванович не споёт «звёздочки» (он был очень приятный старичок).
На Пасху развлекались особо: качались на качелях, катали яйца (для этого была специальная доска с канавкой), бились ими и, главное, звонили в колокола. Колокольня всегда стояла закрытой, и доступ туда был только звонарю. Однако в первый день Пасхи разрешалось позвонить и другим «умельцам». Поэтому именно в первый день Пасхи временами слышался весёлый звон. Однажды такая радость выпала и нашей компании. Надо было видеть, как Михаил, будущий воспитанник консерватории и диакон, нас расставил и нами дирижировал. На себя он взял самую ответственную роль – маленькие колокола, которые ведут мелодию «тили-тили-тили», а мне, как самой младшей, когда он подаст знак, надо было дёргать веревку самого большого колокола для заключительного «бом». Нам казалось, что мы всё сделали великолепно и своим звоном прославляли Христово Воскресение. Но внизу почему-то ворчал дядя Костя, а дома родители сначала приняли наш звон за набат, но, не увидев нигде пожара, решили, что на колокольню забрался пьяный.
К выдающимся весенним событиям можно причислить также ледоход на нашей реке Утроя (по-латышски Ритупе). Эта небольшая речка, которая около Михалово была совсем мелкая, с каменистым дном, и летом её можно было легко перейти вброд по камням не разуваясь. Во время половодья разливалась, становилась широкой, быстрой и неспокойной. Мы наблюдали ледоход с моста, мне было страшно, но уходить не хотелось, настолько это было захватывающее зрелище. Только когда льдины ударялись о каменные опоры моста, сердце на мгновенье замирало.
Совершенно особую радость доставляло лето. Мы купались (голышом, никаких купальников у нас в помине не было), удили рыбу или ловили её сетью, руками ловили раков, которые сидели под корнями ольхи, росшей у самой воды. По обоим берегам реки на сочных лугах росли всевозможные полевые цветы. На деревьях птицы вили гнёзда. Наступали летние каникулы.
Здание школы стояло пустым, места для игр у нас было предостаточно. Вспоминаются летние работы на маленьком огородике около школы и на нашем хуторе, в километре от школы, где были посеяны клевер, овёс и горошек для нашей коровы и лошадки и посажена картошка. Картошку нужно было окучивать и выпалывать репейник (такой низкий сорт, неизвестно, почему он там вообще рос в картошке?). Этот репей в больших корзинах приносили домой, затем в реке начисто мыли и в деревянной кадке мелко нарубали (это была моя обязанность). Вымытым его смешивали с грубой мукой и скармливали свиньям. Конечно же, мне нужно было помогать по огороду и пропалывать клумбы. В те времена у детей всегда была своя работа и свои обязанности.
Выращенного картофеля и овощей хватало на всю зиму, и их никогда не покупали. Поздней осенью забивали свинью, и у нас на Пасху был вкусный окорок, какого позже мне не доводилось даже видеть. На всю зиму хватало копчёного сала. Муку, крупы, соль, сахар покупали мешками. Молочные продукты и яйца в достатке были свои. Мне очень нравилось, когда взбивали масло, лакомиться домашней пахтой. Хлеб тоже пекли сами. Осенью я собирала кленовые листья – если их положить на лопаты для хлеба, на его нижней корочке получался красивый рисунок. Свой хлебушек был душистый, вкусный и стоял, не черствея, неделю. Готовясь к зиме, варили варенье, сушили и солили грибы, квасили капусту и солили огурцы. В кладовой стояли бочки с капустой и огурцами и бочонок с грибами. Картошку хранили в погребе, под полом на кухне. Сало и муку – на чердаке.
Ещё было интересно, когда варили мыло из свиных кишок и отходов. Это делали раз в год, вскоре после того, как закалывали свинью. Сами мылись в бане синим пёстрым мылом (теперь такое не производят, но его можно увидеть на картинах Кустодиева). Так называемое мыло для лица было душистым. Когда отец брился, он делал пену из душистого мыла. Брился бритвенным ножом, предварительно наточив его о старый армейский ремень. Я со страхом наблюдала за этой процедурой.
Колодца у нас не было. Воду носили с реки сразу в двух вёдрах на коромысле. Для воды в коридоре стояла большая деревянная бочка.
Когда летом стирали бельё, полоскали его в реке. Льняные простыни, полотенца и одежду колотили на камне колотушкой, били основательно, и бельё становилось белоснежным. Хлопковую, шёлковую и шерстяную одежду утюжили железным утюгом (его нагревали углями). Льняные простыни и полотенца не утюжили, а катали: накручивали на плоскую деревянную доску с ручкой на конце.
Из домашней утвари самым заметным был самовар, из которого пили чай, когда он начинал красиво гудеть – «петь». Самовар тоже нагревали углями. Иногда, чтобы угли разгорелись быстрее, на трубу самовара надевали сапог и раздували угли как мехами. Самовар на все праздники чистили – тёрли раздавленными ягодами клюквы, и тогда он блестел и сверкал.
Утюг, как и прочую старую деревенскую утварь, я подарила музею истории Риги, а самовар – Резекненскому краеведческому музею.
С детства с уважением отношусь к культуре, обычаям и традициям каждого народа. В связи с этим поделюсь интересными наблюдениями. Я упомянула, что в нашем маленьком местечке жили рядом и русские, и латыши, и цыгане, и евреи (особенно много их было в Лудзе и Карсаве), которым принадлежала часть лавок и магазинчиков. В Лудзе жила одна очень богатая цыганская семья – домовладельцы, глава этой семьи считался у цыган бароном. Видела двух девушек из этой семьи, очень красивых и элегантных.
По дороге мимо нашего дома иногда проезжали цыганские повозки, наверное, кочевали с одного места на другое. И тогда некоторые цыганки заворачивали и к нам, большей частью они были среднего возраста или пожилые. Они особо не попрошайничали, за то, что им давали, благодарили и исчезали. Обычно мама отдавала им нашу одежду, из которой мы уже выросли. Никогда ничего не было украдено. Однажды мы были с братом дома одни. Подошедшим цыганкам пояснили в окно, что никого нет дома, и они спокойно ушли, не приставая, чтобы мы открывали дверь или что-то давали. Отец говорил, что цыгане не крадут там, где они в данный момент живут. Не помню уже, сколько цыганят училось в нашей школе, может, трое, не больше. Приходили в школу в аккуратной, чистой одежде, сами чистые, ухоженные.
Как-то летом цыганский табор стоял несколько дней в Михалово около моста, в том месте, что им указал священник отец Никанор. Матушку священника и мою маму пригласили в табор – посмотреть, как живут кочевые цыгане. Взяли также меня и некоторых учеников из нашей школы. Горели костры, кажется, пять. Еду варили в подвесных котлах. В нашу честь устроили небольшой концерт, пели хором и соло, под гитару и под скрипку. Особо удивила нас наша ученица, девочка лет десяти-двенадцати, которая исполнила номер, сопровождая пение выразительными, плавными движениями. Она пела очень популярные в то время песни Александра Вертинского. У меня до сих пор стоит перед глазами выступление этой талантливой девочки. Интересно, как сложилась в дальнейшем её жизнь?
Вообще отца и маму часто звали в гости родители наших учеников. Мне больше нравилось, когда нас принимали без «почестей», по-простому: так можно было спокойно осмотреть всё хозяйство.
В конце лета обычно играли свадьбы. Отца часто приглашали в посажёные отцы. Невеста повязывала ему через правое плечо полотенце с орнаментом и с кружевами на концах. Однажды отцу дали ещё и расписные рукавицы. Интересный обычай: невеста вносила сундук с приданым в дом молодого мужа, и тогда посажёная мать (обычно очень говорливая, дородная женщина) вынимала из сундука расписные полотенца и развешивала их на гвозди, которые заранее вбивали в стены. Ни один гвоздь не оставался пустым. Посажёная мать при этом могла ещё от души наговориться.
Самую пышную свадьбу, на которой я когда-либо побывала, играли в доме Ивана Ивановича Иванова. Женился его приёмный сын, сирота. Свадьбу справляли целую неделю. Иван Иванович выделил этому молодому человеку в приданое пятнадцать гектаров и помог построить дом, а значит – заложить основу нового хозяйства.
Мы с отцом пришли в дом Ивана Ивановича. Дом украшали цветами и берёзками, к этому подключили и меня. Затем я помогала украшать двух лошадей (молодые ехали на двуколке) – расчесали гривы и каждой заплели на лбу косичку, в которую вплели белую ленту. Понятное дело, лошади лоснились и блестели.
Гостей позвали в комнату для торжеств. Под иконами, за столом, задрапированным белым, сидел жених и мой отец. Родственники и гости стояли вокруг молча. Отец сказал речь, особо подчёркивая благородство и щедрость Ивана Ивановича в воспитании сироты, пожелал жениху счастья. Иван Иванович и его свояченица (сестра покойной жены, которая вела его хозяйство) иконой благословили жениха. Затем подходили все по очереди, пожимали жениху руку, целовали, желали счастья и клали деньги на тарелку, стоящую на столе. Подошла моя очередь, отец мне уже заранее дал денег. Поскольку я была «большая», жених буквально перегнулся через стол, чтобы поцеловать меня. На тарелке я видела красивые серебряные монеты достоинством в один, два и даже пять латов. Это были деньги на начало совместной жизни. Потом все уселись в повозки и поехали в храм. Жених прибыл первым, затем появилась невеста. Вошли в храм. Было уже совсем темно. Но горели свечи, и оттого всё было светло, торжественно и благодатно. Пел хор. Отец прочитал «Апостол» – фрагмент из Послания апостола Павла Ефесянам о значении брака. Я сотни раз слышала это чтение, но ни одно не могло сравниться с истинно художественным чтением моего отца. Начав с низких тонов, его голос с каждым словом звучал всё выше и выше, переходя в конце в долгое высокое звучание.
Когда молодожёны вернулись домой, в дверях их встретили хлебом-солью, а мы обсыпали их цветами и зерном: рожью, ячменём, пшеницей – так что, поднимаясь по лестнице, они всё отряхивались. За столы (их накрыли в комнате для торжеств, пока мы были в храме) садились по очереди, в несколько «присестов», поскольку всем сразу места не хватило. Для молодёжи стол был накрыт в соседней, меньшей комнате.
Праздновали всю неделю. Приходили целыми группами, прошеные и непрошеные, со всей округи, и всех угощали. Иван Иванович и его помощник вёдрами носили пиво из погреба (мне удалось подсмотреть, что в погребе ещё очень много бочонков).
Восторг у нас, детей, вызвал комичный случай. Иван Иванович как раз шёл с ведёрком из погреба, когда в дом вошёл один бобыль, не помню его имени. Увидев его, Иван Иванович сказал: «Вот беда, что у меня нет с собой кружки, я бы тебя угостил пивком». Тот сразу нашёлся: «Да не надо никакой кружки, Иван Иванович, я так попью, из ведёрка». И как приложился к ведёрку, так и не оторвался, пока всё не опустошил, крякнул и сказал: «Спасибо, Иван Иванович, отменное пивко!» – и ушёл. Но недалеко: улёгся в ближайшей канавке и заснул. Иван Иванович позже послал нас, детей, посмотреть, спит ли ещё бобыль, не заболел ли случайно. Смогли доложить, что спит и храпит. Так он на травке проспал до вечера и затем отправился домой даже не качаясь. «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя!»
Танцевали на свадьбе на специально приготовленной площадке в парке около беседки. Играли три известных музыканта (гитара, мандолина и банджо), а когда они отдыхали, звучал граммофон.
А теперь опишу похороны, на которых всех, всё наше окружение, объединили общая боль и сопереживание. Речь идёт о похоронах старшего сына Матвея Ивановича Гусева, председателя родительского совета и старосты церковного прихода. Матвей Иванович уже отмечен в моих воспоминаниях, когда говорилось о помощи потерпевшим при наводнении. У него было четыре сына. Старший, статный парень двухметрового роста, был призван в армию. Благодаря своему росту, он попал в охрану президента государства (между прочим, парень-то были русский!). Туда набирали только красивых, высоких ребят. Успешно отслужив, он ехал домой, но, переходя из одного вагона в другой, упал. Наверное, уже на радостях «пригубил»...
В день его похорон напротив школы остановилась грузовая машина с гробом, на котором лежали огромный венок с лентой (мы таких никогда не видели) и военная фуражка. Гроб поставили в храме. Матвей Иванович, всегда крепкий, как дуб, теперь совершенно поникший сидел у гроба, положив на него голову. Все подходили к нему, но слов утешения не находили, а только молча обнимали. На похороны собрались все местные, в храме было полным-полно народа. Все плакали. Когда гроб опускали в могилу, плакали навзрыд.
Судьба этой семьи оказалась тяжёлой. Во время Второй мировой войны погиб ещё один сын, третий вернулся без ноги. Живым и здоровым остался только младший, который и стал хозяином в отцовском доме.
В школе была довольно хорошая библиотека, которую я постепенно почти всю прочла. Книгами мы менялись, брали друг у друга. Как говорил отец, «книги должны идти в народ, а не стоять на полке». Для школьных нужд выписывались детские и молодёжные журналы и на латышском языке: «Cīrulītis», «Mazās jaunības tekas», «Jaunības tekas». Учительница латышского языка выписывала журнал «Atpūta» с красивыми цветными иллюстрациями, который давала читать и мне. Отец получал газету «Сегодня» – на первой странице субботнего номера всегда была репродукция какой-нибудь картины.
Я этими номерами оборачивала свои учебники. Таким образом, мои книги выглядели пёстрыми, цветными, а я знакомилась со многими работами и запоминала имена их авторов, художников. Впрочем, некоторых я уже знала: книга «Живое Слово» была богато иллюстрирована.
Летом мне нравилось сидеть на ветке черёмухи опершись спиной о ствол и читать. Но излюбленным местом был большой камень, вокруг которого росла малина. Там, сидя с книгой в обнимку, я чувствовала себя, как в гнезде.
Так, ненавязчиво и без особого принуждения, я соприкоснулась с художественными и культурными ценностями. Из газет, которые были уже прочитаны и отложены для хозяйственных нужд, я вырезала портреты писателей, художников, певцов (например, Шаляпина) – их собралась целая коллекция.
Дома было довольно много открыток с репродукциями картин. Правда, они лежали в мамином альбоме. А ещё мы получали красивые поздравительные открытки на праздники и именины и очень берегли их. Сейчас моя коллекция открыток хранится в музее истории Риги.
О праздновании именин. 25 января, на Татьянин день, ко мне приходили мои друзья – дети. Когда все собирались, батюшка служил небольшой молебен. Я стояла одна впереди всех в своём лучшем платье, со светлыми бантами в косах, меня охватывало ощущение торжественности, особенно когда священник читал Евангелие, положив его мне на голову. Даже сейчас, когда пишу об этом, наворачиваются на глаза слёзы. Сколько было таких чудесных мгновений в моей жизни, я не знаю и не могу сказать. Все дни слились воедино, и сейчас кажутся событием одного красивого дня.
25 января – особый день. Через много лет, уже будучи студенткой, я первый и единственный раз в своей жизни на Татьянин день посетила бал, организованный русскими студентами в офицерском клубе. «Татьянинский бал» в Риге был одним из самых красивых… 25 же января 1945 года арестовали моего отца и сослали его на десять лет в Сибирь. И вновь 25 января, в день моих именин, я получила удивительный подарок – родился мой старший внук Андрей. К тому времени я уже многие годы не отмечала именины торжественно. В этот же раз после посещения роддома я поехала в Свято-Троице-Сергиев монастырь (на улице Кр. Барона), где у иконы Святой Татианы долго молилась о милости и заступничестве перед Богом.
Вспоминаются Дни русской культуры. Их организацией занималось «Рижское русское культурно-просветительное общество» и его специальный комитет. Дни русской культуры проходили во всех местах компактного проживания русского населения Латвии. Естественно, что торжественнее всего они проходили в Риге. Помню их хорошо, так как сама в них активно участвовала.
На праздничной площадке ставили эстраду. Для уважаемых гостей и людей постарше было несколько скамеек, остальные просто сидели на траве. Приезжали учителя из окрестных школ, интеллигенция из Лудзы, Карсавы и даже Резекне, бывали и русские депутаты Сейма (фамилии двоих помню – Корнильев и Шполянский). И депутаты, и работники культуры выступали с речами. В программе были выступления хора, танцы, сольные номера. Как виртуозного исполнителя танца помню учителя Александра Селунского из Лудзы.
К Дням русской культуры тщательно готовились. По воскресеньям после богослужения в школе проходили репетиции хора. В хор отец отбирал лучших певцов из учащихся старших классов, остальные были молодые люди из окрестностей. Шили народные костюмы. У парней они были совсем простые – вышитая или цветная (красная, голубая) рубашка, пояс с кистями. Девушки и женщины шили яркие сарафаны, которые дополняли белая рубашка с вышитыми рукавами и воротничком и вышитый фартук. В старом альбоме сохранилась фотография: на ней – мой отец в белом жакете, за ним – хор (и я в довольно коротком сарафанчике), музыканты, про которых я уже рассказывала. Русским танцам молодёжь обучала одна из дочерей священника – учительница.
После основного концерта был детский утренник, на который шли и дети, и взрослые. Было интересно смотреть, как дети играют на сцене. Так, с пьесой «Лгунишки» справились весьма успешно, как утверждали учитель, который нас обучал, и публика. Пьесу ставили в большой риге священника. Об этой риге сохранились самые милые воспоминания, ведь там мы играли в прятки и другие игры.
Среднее помещение риги, в котором молотили, было большим, почти как зал, а с обеих его сторон – пристройки: одна с печью, где хлеба сушили, вторая для хранения инвентаря. Когда мне было лет семь, эту ригу мы, сорванцы, – младшие сыновья священника и я – использовали как каток. У риги была соломенная крыша с уклоном в одну сторону почти до самой земли. С этой же стороны была и завалинка, так что забраться на крышу не составляло труда. После дождя, особенно осенью, когда крыша почти всегда была мокрой, с неё можно было великолепно съезжать сидя, слегка приподняв ноги. То, что штаны становились зелёными, нас мало волновало. Мама наставляла, чтобы я не сидела на земле, ведь такие штанишки трудно отстирать. Я, понятное дело, не объясняла, что это солома на крыше от старости позеленела... Конечно, отстирать было трудно, это ведь были не трикотажные штанишки, а хлопковые, да ещё и с кружевами. Так мы развлекались, пока батюшка не заметил на крыше риги странные следы, как будто солома задралась. Спросил у сыновей, они сказали, что видели, как по крыше бегают овцы. Но наверняка батюшка подозревал «других овец», и однажды, в туманный день, своими глазами увидел их… Конечно, и моя мама тогда узнала об этих шалостях.
Возвращаюсь к Дням русской культуры. В риге ставили сцену и большие скамейки из свежих неотёсанных досок для зрителей. Ригу украшали берёзками, бумажными флажками и фонариками. Помещение освещалось керосиновыми лампами. Вечером здесь играли небольшие пьесы или водевили, особо любимыми были пьесы А. Чехова «Свадьба», «Медведь», «Юбилей» и инсценировки его рассказов. Позже, в советские времена, когда говорили о самодеятельности и взращивании талантов, я внутренне посмеивалась. Мы в молодости не называли это самодеятельностью, и ничего мы «не взращивали». Просто для учителей и интеллигенции было само собой разумеющимся, что в Днях русской культуры и благотворительных мероприятиях нужно принимать самое активное участие.
Между дневной и вечерней программами в самом большом классе школы были накрыты столы для всех участников и почётных гостей. Столы красиво декорировали, из блюд подавались холодные закуски, различные салаты, к ним – самодельное пиво и морс, чай с печеньем и булочками. За столом беседовали и пели. Никакой водки. Устройство и украшение столов находились в ведении моей мамы. Девушки приносили продукты, пекли и варили, затем всё раскладывали согласно маминым указаниям, приговаривая, что это для них хорошая школа – как надо устраивать праздники. Вообще к моей маме охотно шли в служанки все девушки из округи. Проработав пару лет, они успешно выходили замуж, так как были хорошо обучены ведению домашнего хозяйства.
Судя по фотографиям в старом альбоме, видно, что жизнь стабилизировалась: школьники были лучше одеты и обуты. Иногда за покупками ездили в Карсаву (десять километров от Пудиново), в Лудзу (двадцать километров), а иногда доезжали и до Резекне (тридцать километров), где, например, покупали пальто. Ехали на лошади, автобусы в те времена туда не ходили.
Свою первую поездку в Лудзу помню очень хорошо. Мне, наверное, было лет семь. На подъезде к Лудзе с нами несколько раз заговаривали евреи, стоящие на обочине дороги: «Что везёте продавать?» Большей частью говорили по-русски. Это были перекупщики, которые старались купить подешевле, не дав крестьянам добраться до рынка. Улица, по которой мы въезжали в город, была вымощена булыжниками, и нас так трясло, что казалось: все внутренности вытрясутся наружу. Наконец въехали в один двор у подножья городища. Там поставили лошадь и отдохнули сами, выпив чая у приветливой хозяйки. Мама пояснила, что на горе – это развалины рыцарского замка, а рядом – городище древних латышей, где ученые-археологи занимались раскопками и нашли много предметов старины.
Затем мы ходили по магазинчикам и лавкам, в которых торговали главным образом евреи. Заглядывали и на базар, где селяне с возов торговали продуктами и своими поделками. Мы купили несколько глиняных горшков. Я впервые увидела целые возы латгальской керамики. В те времена она стоила сантимы, зато позже стала известной и очень дорогой. Родители обычно делали покупки в одних и тех же магазинах, где они уже годами были «своими» покупателями.
Когда мы шли по улице, произошёл комичный случай. На мне была ярко-красная вязаная кофточка и на голове красная шапочка. Мимо шли индюки и что-то клевали. Таких птиц я видела впервые и, конечно же, остановилась их рассмотреть. А они с криком бросились на меня! Я бегом от них, они – за мной. Но тут один еврей распахнул двери своей лавки и позвал меня: «Забегай внутрь!» Я забежала, дверь за мной закрылась, а индюки остались на улице. Мои родители и маленький братик, смеясь, зашли за мной в лавочку. Но я была основательно напугана. Таковы были мои первые впечатления от Лудзы.
Карсава была меньше Лудзы. И здесь при въезде в город евреи встречали вопросами: «Что везёте продавать?» В магазинах обязательно торговались. Однако это было не принято делать там, где продавали продукты, канцтовары и книги: на эти товары были твёрдые, всем известные цены. Зато в магазинах одежды торговались отчаянно. А когда сходились на цене, товар красиво упаковывали, а подавая, говорили: «Спасибо и обязательно в следующий раз приходите к нам, ведь мы вас уже хорошо знаем и вы – наш лучший покупатель!» Такой же стиль торговли был и в Резекне.
Когда был нужен совет серьёзного врача, все ездили в Лудзу к доктору Онисиму Рекашову. С мелкими болячками обращались к молодому врачу в Мердзене (в трёх километрах от нас). О докторе Онисиме Рекашове следует рассказать подробнее. Это был чудо-доктор, безошибочный диагност, его знала вся Латгалия. Он прожил сто два года и, как я слышала, до последнего лечил. Он жил в домике с большим садом, где проводил свободные минуты. Дом был обустроен просто, по-спартански. Свою огромную библиотеку он позже подарил нашей гимназии. Одевался просто: во френч из лёгкой, светлой ткани. Даже зимой не носил пальто. Когда было очень холодно, на голову надевал башлык.
Дважды действия доктора Рекашова вызвали моё восхищение. Моя мама в Риге обратилась к известному профессору, который нашел у неё туберкулёз и посоветовал отделить от неё детей или же поместить её в санаторий. Отец случайно встретил на улице доктора Рекашова, который поинтересовался, почему он нос повесил. Отец поведал о своих бедах. Доктор велел привести маму к нему. И вот его диагноз: туберкулёз – в мозгу у рижского профессора, а у мамы – ревматизм, и из-за этого боли в груди. Выписал соответствующие лекарства и посоветовал, что делать и чем питаться. У мамы такие боли больше никогда не повторялись.
Второй случай был с моим братиком. Он, прыгая, выбил сустав в правой руке. Мальчика быстро доставили к костоправу, но, увы, это не помогло. Позвонили доктору Рекашову. Он назначил день и время, когда явиться, и дал наставление, чтобы ребенка не травмировали, а сказали ему, что едут не к врачу, а в гости. Доктор привёл братика не в кабинет, а в столовую, где на столе стояла ваза с разными фруктами; особенно вкусными были сливы и груши. Доктор знай потчует и беседует о чём-то, только не о болезнях. Внезапно он взял братика на руки и в одно мгновение, молниеносно – княкш! – вправил сустав, а ребёнок не успел даже понять, что с ним произошло.
Позже, когда я училась в гимназии, я заболела корью, и он поместил меня в свою больницу. Как он был чуток и ласков! Между прочим, одну гимназистку- сироту, которую он оперировал, он забрал долечивать к себе домой, чтобы она смогла полностью выздороветь и прийти в себя. Об этой сироте больше некому было позаботиться... Но он мог быть резким и насмешливым по отношению к симулянтам, притворщикам и «глупым дамочкам». О докторе ходили всякие легенды. Например, рассказывали, что один франт явился к нему с болезнью ног. Доктор велел снять туфлю, осмотрел её со всех сторон с наигранным удивлением и бросил в угол. Затем вытащил откуда-то свой ботинок с четырехугольным носом и сказал: «Вот, носи такие ботинки, и ничего не будет болеть»!» У молодого человека на ногах были так называемые «джимми» – туфли с очень узкими носами, которые тогда были в моде. Выдающаяся, светлая личность наш доктор Рекашов! Упокой, Господи, душу его…
Я характеризовала своего отца как учителя, педагога и общественного деятеля. Теперь о мамочке. Уже рассказывала, что к ней ходили тётушки за «порошками от головы» и валерианой, девушки – консультироваться по шитью, а иногда приглашали нарядить невесту. В школе мама преподавала в младших классах все предметы. Считалось, что лучше, когда малышам преподаёт один учитель, потому что они легче привыкают и к нему, и ко всему распорядку в школе. Мама умела заинтересовать ребят новым материалом, толково с ними занималась, рассказывала сказки. Как дома, так и в школе, она никогда не кричала, не поднимала голос, справлялась со всем спокойно и строгости совсем не чувствовалось. Дети к ней очень привязывались.
Когда я была совсем маленькая, мне нравилось вместе с мамой сидеть на полу перед открытой дверцей печи и слушать сказку или рассказ о наших предках и родных. Они остались где-то в России, и лишь изредка приходили письма от моей бабушки. В ответ я писала ей письма и рисовала маленькие рисунки.
В альбоме есть фотография моей бабушки, маминых братьев и сестры. Про бабушку такой рассказ. Она из семьи священнослужителя, а её старший брат работал в почтовом департаменте. Бабушка, Вера Александровна Мархиль, не могла дождаться, когда же её старшая сестра Маша наконец-то выйдет замуж: она была очень властной и бедную Верочку всячески «дрессировала». И вот подвернулся счастливый случай навсегда покинуть дом – сосед попросил руки Верочки, а вовсе не старшей сестры. Всё произошло, как в старые добрые времена. Жених с торжественным визитом пришёл к матери. Пока они беседовали в гостиной, Верочка, подслушав разговор, быстро сообразила, что упускать такую прекрасную возможность освободиться от старшей сестры нельзя. Ничего, что жених в годах и она с ним ни разу даже не беседовала. Но тут она услышала, как мама отвечает, что для них это большая честь, но Верочке ещё нет шестнадцати лет. Не выдержав, она открыла дверь и сказала, что мама, видно, забыла, что ей уже шестнадцать лет и даже два месяца…
Таким образом моя дорогая бабушка стала женой уже в шестнадцать лет, в девятнадцать – вдовой, а в двадцать один вышла замуж вторично за моего дедушку Илью Фёдоровича Петрова. Дед был выходцем из крымских татар. В этом браке родилось четверо детей: моя мама – старшая, за ней – двое сыновей, Алексей и мой крёстный Ваня, и ещё дочка Мария. Счастливая жизнь с мужем у бабушки закончилась, когда дед в сорокалетнем возрасте умер от туберкулёза (в те времена неизлечимой болезни). Всё нажитое очень скоро было прожито. Но это бабушку не смутило – она устроилась на работу учительницей в сельскую школу и воспитала всех своих детей порядочными людьми. Мой крёстный умер в молодости: во время революции, в годы смуты, был зверски убит. От деда наша семья унаследовала смуглую кожу, чёрные волосы, чёрные выразительные глаза.
Семья моего отца жила в Белоруссии. Их можно назвать середняками – по советским меркам. Его сестра Лина приезжала к нам, а отец, вернувшись из Сибири, навещал её в Ленинграде. От их дома после войны ничего не осталось.
Надо написать и о моём брате Леониде. Мама рассказывала, что он очень похож на деда: среднего роста, чёрные волосы, красивые чёрные глаза с чёрными ресницами. Необыкновенно одарённый. Основную и среднюю школу брат окончил на «отлично». Учился во 2-й государственной гимназии (Агенскалнской), туда позже я отвела свою дочь Александру, а потом своих внуков Андрея и Сандру.
Когда Улманис закрыл русские школы, оставив на всю Латгалию одну лишь русскую гимназию в Резекне и русские классы в Даугавпилсской латышской гимназии, мы перебрались в Ригу. До этого брат полгода посещал латышскую школу, чтобы отточить свой латышский язык. В Риге я поступила в русскую гимназию, а Лёня – во 2-ю латышскую. Несмотря на то, что он был русским мальчиком, с первого по последний класс он был первым учеником в школе.
Особые успехи у него были по латинскому языку. Учитель латинского языка был в восторге от Лёни и прочил ему блестящую карьеру. Брата приняли в университет на строительно-инженерный факультет без экзаменов.
Но судьба распорядилась иначе. В последний год войны его призвали в легион. Когда немецкая армия отступала, на одном из последних кораблей, которые вышли из Рижского порта, вместе со своими однополчанами отбыл и Лёня. Родители были в порту, успели ещё перекинуться словечком… И это всё…
Все его друзья, которые вернулись с войны и были сосланы в ссылку, нашли друг друга. Только о Лёне не было никаких известий. Если бы он был жив, наверняка отозвался бы. Друзья искали его через Красный Крест – безрезультатно. Думаю, что корабль, на котором он отбыл, утонул, другого объяснения у меня нет.
Несколько лет назад у меня была возможность спокойно, без суеты, посетить «рай» своего детства – Михалово. Внуки батюшки Никанора Трубецкого – Дмитрий, Ася и Таисия пригласили меня поехать туда вместе с ними.
Я вновь прошлась по местам своего детства. Храм, часовня, дом священника сохранились. Здание школы почти разрушилось, осталась только его малая часть: наша квартира из двух комнаток, кухни, кладовки и коридора. Теперь здесь живёт священник. Очень приятный молодой человек, который пригласил осмотреть мою бывшую квартиру, что я и сделала. Также посидела на большом камне, на котором в детстве играла или читала, Дмитрий меня сфотографировал. Батюшка открыл храм. Вошли туда: всё так же, как в детстве, без изменений. Затем отправились на кладбище, где батюшка отслужил панихиду об упокоении отца Никанора и его супруги (обоим поставлен памятник), обошла все милые сердцу места. Порадовалась, что мост через реку восстановлен в прежнем виде… Было грустно и жалко, что больше нет здания нашей школы и риги, с которыми связано так много воспоминаний; нет большой липы, которая росла на площадке для праздников; нет ржаной нивы перед храмом, у которой молились, чтобы Бог напоил землю. Вместо нивы построен ряд домиков, выкрашенных яркой синей краской, что не только не украшает место, а наоборот, делает его простецким, совсем провинциальным. В моё время это было очень достойное место. Неизменными остались только храм и река…
Эта паломническая поездка на всех произвела глубокое впечатление. Со мной ездила моя коллега Сильвия, для которой всё было новым, невиданным, она сказала, что даже не могла себе представить такую красоту.
Из моих бывших друзей, хороших соседей и знакомых там никого уже нет. Многие переехали, и контакта с ними нет, многие почили в далёкой Сибири, многие спят вечным сном на родном кладбище. Упокой, Господи, их души! Я очень рада, что мне до того, как отойти в мир иной, довелось ещё раз увидеть мир моего детства. И я всё равно вижу его таким, каким он был в те годы. И люди, с которыми мне довелось соприкоснуться, останутся в моей памяти такими, какими они были тогда. Они мне дали очень много. Я им бесконечно благодарна. Аминь.
Рига, 1998–1999 годы.
Часть II. Юность
Надеюсь, что вам будет интересно узнать и о моей юности.
Почти век отделяет меня от неё, и жизнь настолько изменилась, что я с удивлением воспринимаю те годы, как очень далекие и настолько другие, словно я их и не переживала.
В 1932 году окончила Пудиновскую 6-классную основную школу и поступила в Лудзенскую правительственную русскую гимназию. Начался новый этап в моей жизни, очень важный в формировании мировоззрения и личности вообще.
До этого я жила в семье, ни с кем из родных надолго не расставаясь. Более того, мы жили в помещении школы, где я училась, так что не было необходимости даже куда-либо ходить. Всё происходило здесь же, в школе. Когда у меня, ученицы последнего класса, спросили о планах на будущее, я с уверенностью ответила, что буду учиться дальше и стану учителем, как и мои родители. Жизнь к тому времени уже стабилизировалась, и никому из нас даже и не снилось, что весь мир перевернется вверх ногами.

Александра Ильинична (1891-1954) и Илья Иванович (1891-1972) Асташкевичи с дочерью Татьяной (1918 г.р.). Лудзенский уезд, Годышево, 1919 год
Итак, в 1932 году мои вещи: одежду, туалетные принадлежности, простыни и одеяло – уложили в чемодан и перетянули ремнями. Этот чемодан служил моему отцу ещё во время военной службы, а закончил он свой век на чердаке нашего рижского дома.
Уезжая в Лудзу, я плакала навзрыд, и ещё неделю плакала в Лудзе. Жить мне пришлось в гимназическом интернате. Родители думали, что так я быстрее привыкну к чужому месту: появятся подруги, и я не буду скучать. Но я очень сильно грустила. И как раз то, что мне ни днем, ни ночью не удавалось побыть одной, было особенно непривычно.

Александра Ильинична и Илья Иванович Асташкевичи с дочерью Татьяной (1918-2016) и сыном Леонидом (1922-1944). Голышево, 1923 год

Учащиеся Голышевской 4-х классной основной школы. Начало 1920-х годов. В 3-м ряду И.И. Асташкевич с дочерью Татьяной и о. Борис Раман

Пудиновская русская основная школа была построена на церковной земле в 1925 году при содействии о. Никанора Трубецкого. В этой школе Илья Асташкевич работал с 1925 по 1935 год, здесь же учились его дети Татьяна и Леонид

Пудиновская русская основная школа (6-ти классная). Начало 1930-х годов. Слева направо: учительница латышского языка Милда Грасмане, о. Владимир Антипов, заведующий школой Илья Асташкевич и его супруга Александра Ильинична. В последнем ряду 3-й справа - Леонид Асташкевич
В комнате нас было пять девочек, одна из них – моя одноклассница. Остальные старше. Со мной все держались приветливо, были готовы прийти на помощь, особенно старшие девочки, которые помогали мне привыкнуть к новой жизни. Заведующая интернатом (или надзирательница) казалась мне странной: шумная, одетая в длинное платье до пола, с высоким воротом и старинной брошкой, волосы зачёсаны и собраны в кичку – настоящее явление довоенного времени. В моих глазах она выглядела не только старомодной, но ещё и очень старой (в действительности ей было немногим больше 50-ти лет). Постепенно я поняла, что её окрики девочки не воспринимают всерьёз. Она очень хотела казаться строгой. Просто она дорожила тем, что ей удалось получить место работы с бесплатной комнаткой и питанием, потому что, как и многие, она потеряла всё (её муж, полковник царской армии, погиб).
Зато в гимназии (здание, обустройство, традиции и педагоги) мне сразу всё понравилось. Двухэтажное, красного кирпича здание располагалось в самом центре города, выходя фасадом на главную площадь (она называлась «Лошадиной», потому что там регулярно торговали лошадьми). Через площадь стояло большое современное здание – Народный дом, где проходили различные культурные мероприятия, а также крутили кино.
В первый школьный день прежде всего отслужили молебен в актовом зале. Пели все вместе, как это было в моей сельской школе. Молебен отслужил отец Феофан Борисович 1, который мне был хорошо знаком. Он был маминым дальним родственником. Таким образом, один близкий человек у меня здесь уже имелся.

Директор Лудзенской русской правительственной гимназии Иван Дмитриевич Поляков (1882-1951) (в 1943 году рукоположен во священники) и законоучитель о. Феофан Борисович (1868-1943)
После торжественного акта все разбрелись кто куда, несколько девочек-старшеклассниц подошли ко мне познакомиться, мне они сразу очень понравились. С некоторыми у нас потом сложилась настоящая дружба.
Форма была такая. У мальчиков – плотная чёрная шерстяная рубашка с высоким воротом. Рубашка застёгивалась на серебряные пуговицы и перехватывалась чёрным ремнём с металлической пряжкой. Ещё были чёрные брюки, а на голове – маленькая круглая синяя бархатная шапочка с козырьком с серебристой окантовкой и гимназическим значком. У девочек – коричневое шерстяное платье с белым воротничком и манжетами и чёрным шерстяным передником, на голове – синий бархатный беретик с серебряной окантовкой и гимназическим значком сбоку. Такие шапочки в то время были введены во всех средних школах, отличить учеников разных школ можно было только по значкам. В латышских школах у мальчиков был френч, у девочек – синее шерстяное платье с белым воротничком и манжетами и чёрный передник. Появление унифицированной формы, по-моему, было верным и целенаправленным – все выглядели одинаково, и дети богатых людей не отличались от бедных. Форма была обязательна на торжественных вечерах и празднествах. И только на выпускной вечер позволялось надеть вечерний наряд, хотя на выпускном акте при получении аттестата на всех была форма. Поэтому, когда на выпускных моих внуков я увидела, как получают аттестаты полуголые девушки в платьях с вырезом до того места, где заканчивается спина, мне показалось это вульгарным. У нас и на вечерах никаких разрезов и декольте не было, правда, платья были до пола.
Из своих педагогов я с большим теплом и уважением вспоминаю прежде всего священника отца Феофана Борисовича. Седой, чрезвычайно добросердечный, простой, но достойный человек. В табелях и аттестатах Закон Божий стоял первым. Это было очень символично: прежде всего – Закон Божий… У всех и всегда по этому предмету была оценка «пять», так же, как и по последнему предмету в табеле – поведению. Если у кого-то и случалась четвёрка, это становилось скандалом школьного масштаба. А тройка ни по Закону Божьему, ни по поведению не могла быть: тогда вообще исключили бы из школы. Интересно, что отец Феофан, как и другие священники, которых я знала, голос не повышал, не бранился, а в классе стояла тишина: к пастырю было большое уважение.
Нельзя забыть директора и основателя гимназии учителя истории Ивана Димитриевича Полякова 2. Его влияние было столь велико, что я в дальнейшем без колебаний решила стать историком. Во время Второй мировой войны он стал священником. Он нас с мужем венчал и крестил нашего сына Андрея. Умер он при исполнении своих священнических обязанностей – в храме, упав в алтаре. Учебный материал он преподавал очень живо и толково. Часто говорил просто о жизни, без демагогических поучений, а как старший друг.
Великолепной учительницей была Анна Юрьевна Свэнне 3 – преподавательница латышского языка. Она была супругой школьного инспектора Отто Яновича Свэнне 4 (о котором я писала в первой главе воспоминаний «Детство»). На уроках латышского языка мы часто пели народные песни и песни на музыку композиторов и слова поэтов. При этом учительница рассказывала нам о них. Так, ненавязчиво, словно играя, дети знакомились с культурным наследием латышского народа. Когда мы уже жили в Риге, получили известие, что инспектор Отто Янович умер от лейкемии. Очень сожалели, ведь он всегда выглядел таким энергичным. Но позже все говорили, что Бог был к нему милостив, призвав его к Себе и позволив обрести покой на родной стороне. Потому что Анну Юрьевну и её сына Гунтарса 14 июня 1941 года вывезли в скотном вагоне в Сибирь, в Красноярский край. Спаслась только их дочь, Вия, которой, когда за ними пришли, не было дома.
Много мне дала и преподавательница русского языка Мария Викторовна Микирова 5. Она заведовала богатой гимназической библиотекой. Благодаря ей я, кроме русских классиков, узнала таких живших в эмиграции русских писателей, как Шмелев, Бунин, Теффи и другие. Прочитала также и все труды генерала Краснова, которые были в библиотеке. В то время все были увлечены его книгой «От двуглавого орла к красному знамени». В библиотеке мы помогали доставать книги с верхних полок и приводить их в порядок, потому что Мария Викторовна была весьма грузной, и делать это самой ей было затруднительно.
Муж Марии Викторовны, Микиров Федор Павлович, преподавал нам рисование. Сам он окончил Пермскую художественную академию. Рисовал реалистично, в духе передвижников, как учитель работал весьма успешно, во всяком случае, основы рисования и акварели нам заложил. Ещё надо сказать, что лучших рисовальщиков (среди них и меня) он пригласил работать с натурой в кружке рисования. На эти занятия я ходила с радостью. У нас сложился хороший коллектив. Рисовали не только «nature morte», но и друг друга. Этот учитель управлял обоими интернатами, как девичьим, так и для мальчиков. К нему прилепилось прозвище «Крюк», не знаю почему, но так было всегда. Когда он являлся с проверкой, сразу после того, как дежурный открывал ему двери, какая-нибудь девочка мчалась по всем комнатам с загнутым указательным пальцем в виде крюка. И господин Микиров, проходя по комнатам, видел только образцовый порядок и аккуратных девочек, прилежно сидящих за учебниками. Спустя много лет, когда мой отец вернулся из Сибири и оформлял документы в прокуратуре, мы узнали, что этот учитель был доносчиком: именно ему отец был обязан десятью годами, проведенными в Сибири. Не будем осуждать. Многие в те годы были морально сломлены.
Веселую кличку «Таракан» получил учитель математики Михаил Павлович Большесольский 6. Он не был красавцем: невысокого роста, довольно худощавый, с чёрными волосами и пышными, чёрными усами (поэтому и «Таракан»). Мне математика никогда особо не нравилась. Чтобы держаться на маломальском уровне, надо было прилагать усилия. Но учитель мне нравился из-за своих манер и как великолепный танцор. Он служил в царской армии, позже был офицером Белой армии. На школьных вечерах он обычно входил в зал, когда танцы были в полном разгаре, и когда очередной танец заканчивался, громко спрашивал: «Ну, кто же меня сегодня пригласит?» Девочки толпой бросались вперёд, и он кланялся той, которая подбегала первой. Пару раз посчастливилось и мне. Он танцевал только вальс, держа даму на расстоянии вытянутой руки, и танцевал великолепно. Обычно все усаживались и любовались тем, как они вальсировали одни во всём зале.
Сколь неинтересной наружности был Михаил Павлович, столь сказочно-красивой была его жена Екатерина Модестовна (урождённая фон Розеншильд-Паулин). У них было 6 детей. Всю их семью депортировали 14 июня 1941 года. Самого Михаила Павловича отправили в Вятлаг Кировской области, где он через несколько лет умер, а жену с детьми в Красноярский край, где умерли она сама и трое детей. Остальные трое в 1956 году были освобождены, но об их дальнейшей судьбе мне ничего не удалось узнать 7.
Интересным «явлением» был преподаватель латинского языка Георгий Анемподистович Князев 8: длинный, худой, черноволосый, с пенсне на носу, всегда в чёрном костюме, белой рубашке и чёрным галстуком-бабочкой. Он был любителем выпить, поэтому уроки латинского языка у нас проходили нерегулярно. Его методика была весьма оригинальной, например, он задавал выучить наизусть сто слов, спрашивал, и за каждое слово, которое ученик не знал, снижал оценку на один балл. Всё заканчивалось восторженным возгласом учителя «Кол!» и единицей в журнале. Случалось получить единицу половине класса. Лучше шло с переводами из учебника, но с домашними работами было трудно. Выход, однако, был найден – помог католический священник. Между прочим, у нас было три преподавателя Закона Божьего – православный батюшка, старообрядческий наставник и католический священник, который знал, конечно же, латинский так же, как и латышский, и был молодым, красивым мужчиной. Одноклассники-католики на уроках Закона Божьего с его помощью всё великолепно подготавливали и получали свои «пятёрки». Впрочем, они были хорошими товарищами, поэтому давали нам списывать. «Кол» плюс «пять» в среднем давали тройку даже самым слабым «латинистам». Не понимаю, почему руководство держало такого «специалиста», неужели надеялись, что он исправится?!
Учитель пения студент консерватории Костя Грудовик создал очень хороший хор. У нас были даже свои солисты, с которыми он занимался отдельно. Помню, как приехала какая-то комиссия – несколько человек, среди которых особо выделялся один пожилой господин. Позже учительница латышского языка Анна Юрьевна Свэнне поведала, что это известный профессор теологии и балтийской филологии Лудис Берзиньш 9 (в первый год обучения в университете я писала у этого профессора курсовую работу). Комиссия обошла все классы. Затем нас собрали в актовом зале – надо было петь. Спели несколько латышских песен из своего репертуара и на русском языке (только девочки) – «Хор девушек» из оперы «Евгений Онегин». Тогда профессор Берзиньш спросил, можем ли мы исполнить известную русскую песню «Вечерний звон». Костя, конечно, ответил: «Пожалуйста, с превеликим удовольствием!», хотя с ним мы эту песню никогда не пели. Он только спросил у самой младшей в гимназии девочки с чудесным голосом (похожим на голос Мирей Матье): «Сможешь?» Она едва кивнула головой и очень чисто исполнила сольную партию, а мы под Костиным руководством добавляли «бом-бом-бом». Комиссия долго нам аплодировала, а профессор в восторге воскликнул: «Да, это русские голоса! Ведь не зря они известны во всем мире!» Нашей маленькой солистке он пожал руку и сказал, что её дальнейший путь лежит только в консерваторию. Все педагоги улыбались. Анна Юрьевна так хитро подмигнула Косте, что всем стало ясно: мы оставили хорошее впечатление. Через несколько лет Костя Грудовик глупо простудился, у него образовалась страшная опухоль в горле, и он умер, оплакиваемый всеми.
Легендарной личностью был наш школьный врач Онисим Рекашов 10 (о нём я писала, рассказывая о своём раннем детстве). Он подарил гимназии свою библиотеку (несколько тысяч книг). Он нас лечил, освобождал, если надо было, от уроков. Даже с такими пустяками, как бородавки, к нему смело можно было обращаться, только следовало просто, без обиняков и обмана, рассказать о своих проблемах. Зато притворщиков, обманщиков и заносчивых «пузырей» он видел насквозь. И выгонял их с насмешкой и язвительностью.
Как-то я заболела корью. Когда доктора Рекашова вызвали ко мне в интернат, он сказал, что те девочки, которые в детстве корью не болели, вскоре тоже заболеют, потому что корь очень заразна. Доктор велел мне собираться в больницу, попутно объясняя, что нужно взять с собой. Наша заведующая интернатом Серафима Петровна кокетливо вертелась здесь же, и было видно, что она раздражает врача. На её навязчивый вопрос: «А эта болезнь очень опасна?» он язвительно ответил: «Исключительно для вас! А девочки слегка отдохнут от школы». В другой раз всех развеселил такой случай. Гимназист выпускного класса, красавец и большой донжуан, взволнованный, принес доктору колбу с жёлтой жидкостью, умоляя сделать анализ. При этом объяснил, что для него это чрезвычайно важно, потому что одна девочка, с которой он флиртовал, но был неверен, в порыве ревности хотела плеснуть ему эту жидкость в лицо. Но он успел вырвать колбу у неё из рук. Наш доктор выслушал всё это очень внимательно и тут же взялся за анализ. А затем рассмеялся так, как «в своей жизни никогда не смеялся»: в посуде была не серная кислота, как предполагал мальчик, а обыкновенная моча…
Распорядок дня в гимназии был таким же, как и во всех школах того времени. С утра общая молитва в актовом зале. Вместе пели «Царю Небесный» и «Отче наш», затем были занятия. Обедали мы в интернате, который находился в нескольких шагах от гимназии, мальчики тоже. Здесь командовала Серафима Петровна, ей помогали двое дежурных. Еда была однообразной, и мне не нравилась. В результате врач нашёл, что у меня с желудком не всё в порядке, и на следующий год я обедала в семье учителя Сергея Степановича Полубинского 11. Он преподавал химию и физику. А ещё серьёзно помогал мне по латинскому языку - прошел со мной весь курс с самого начала (я мечтала после гимназии учиться дальше, и родители, конечно же, меня в этом поддерживали). Супруга Сергея Степановича обучала меня игре на рояле, с разрешения директора я занималась после уроков в актовом зале. В то время было принято, чтобы воспитанная юная особа умела играть на каком-либо музыкальном инструменте.

Гимназистка Татьяна Асташкевич. Фото В. Франка
После обеда продолжались остальные занятия, обычно более лёгкие. А сложные предметы (такие, как математика и химия) нам ставили в утренние часы. По окончании уроков в каждом классе (уже не в зале) дежурный читал молитву: «Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу!»
Когда писала об утренней молитве, забыла рассказать, что дежурный должен был прочитать определенную главу из Евангелия.
Евангелие было на церковнославянском и русском языках: на левой стороне страницы текст на церковнославянском, на правой – на русском. Все дежурные читали по-русски, только когда наступал черед дежурить моему однокласснику Павлу Трубецкому 12 (сыну священника и нашего соседа), он красиво читал по-церковнославянски. Я тоже владела этим искусством. И когда наступало моё дежурство, ясно и с выражением читала главу из Евангелия по-церковнославянски. Удивлялись все – и ученики, и учителя, а во мне поднимал голову бесёнок гордости и самодовольства. Спрашивали, где я так бегло научилась читать по-церковнославянски. Отвечала, что научил отец, и я читала ещё в своём сельском храме. В дальнейшем мы с Павлом так и читали. Молитвенным пением (давая тон камертоном) руководил лучший поющий ученик.
После ужина многие снова шли в гимназию. На большом дворе играли в волейбол, бегали «гигантскими шагами» – к большому столбу было прикреплено сидение на тросе, усевшись на которое можно было вращаться вокруг столба. Такого спортивного снаряда я больше нигде не видела. И ещё можно было посещать занятия разных кружков. Вечером все помещения были заняты.
Многие гимназисты были членами скаутской организации или общества «Сокол» 13. Я в них не состояла: хватало того, что я занималась рисованием и помогала в библиотеке. Кинематограф (и то не каждый фильм!) имели право посещать самостоятельно только старшие гимназисты, младшие должны были идти в сопровождении кого-либо из взрослых. Не помню, чтобы показывали фильмы специально для детей, кажется, таких не было. «Микки-Мауса» и «Пата и Паташона» я увидела уже в Риге, в кинотеатре «Голливуд», который находился на улице Калнциема.

Татьяна Асташкевич (справа) и Тамара Войнич после исполнения Неаполитанского танца, середина 1930-х годов. Фото В. Франка
Я сидела на второй парте рядом с Тамарой Войнич 14, дочерью врача 15. Она жила рядом с гимназией. Одарённая девочка, Тамара играла на рояле, великолепно рисовала. Очень живая и находчивая, она, как это часто случается у талантливых людей, по отношению к учёбе была ленива. Её родители вообразили, что я влияю на Тамару положительно, и очень поддерживали нашу дружбу. Они частенько приглашали меня к себе, и, с разрешения заведующей интернатом, я оставалась у них ночевать. Я никак не влияла на Тамару, но зато мы с ней великолепно понимали друг дружку. Её шалости и рассказы меня веселили, и я никогда её не «сдавала». В доме подружки царила приятная интеллигентная атмосфера, которая весьма положительно влияла как раз на меня. У них часто бывал художник Сергей Виноградов и его ученица Е. Нестерова. Виноградов очень любил Латгалию и воспевал её. Некоторые его работы были и в доме у Войничей. Несколько раз Тамарина мама устраивала нам «молодёжный бал», приглашая на него трёх-четырёх мальчиков и девочек: кормила нас ужином, а потом мы танцевали под патефон.
Весной, когда мы заканчивали 3-й класс, надо было сдавать экзамен по анатомии. Тамарин отец прошёл с нами обеими все билеты, и настолько хорошо всё объяснил, что я получила пятёрку, но Тамара – четыре балла. Он также заметил, что я малокровная, мало и плохо ем, поговорил с моими родителями и посоветовал питаться не в интернате, а в семье. И тогда меня определили, как я уже упомянула, на «пансион» к учителю Полубинскому. Доктор Войнич позже стал таким же популярным, как старый доктор Рекашов.
По окончании гимназии Тамара несколько лет училась в Академии художеств и посещала студию балета Александры Фёдоровой 16. После войны она окончила архитектурный факультет и стала одним из ведущих архитекторов Риги. Наши тёплые отношения сохранились на всю жизнь.
Моя вторая подруга, Зоя Больман 17, была хорошим математиком, спортсменкой и активисткой общества «Сокол». Её отец, обрусевший немец, в своё время был полковником царской армии, а затем офицером латвийской армии. Стройный, видный мужчина. Когда он, звеня шпорами, молодцевато шёл по улице, все оглядывались. Он был знатного рода. В его кабинете висело оружие и родовой герб. Зоя рассказывала, что отец занимается генеалогией своей семьи и уже добрался до предков XVII века. В Зоиной комнате также висел герб. То был герб её умершей матери, урожденной Сильницкой. Ещё в комнате находился портрет Зоиной мамы.
К Зое Больман мы ходили редко. У неё была очень строгая мачеха Наталья Вощинина, которая следила за каждым её шагом, и Зое приходилось отчитываться по каждому пустяку. Зоя не жаловалась, но мы и так понимали и сочувствовали ей. Свободно чувствовать себя у неё дома мы не могли.
Зоя очень тепло отзывалась о родителях свой мачехи, называла их дедушкой и бабушкой и охотно гостила в их имении неподалёку от Резекне. Старые Вощинины летом брали дачников. Их имение полюбили и проводили там лето художники Виноградов и Богданов-Бельский. Большая часть детей, написанных Богдановым-Бельским, из окрестностей усадьбы (Лоборжи) Вощининых. Намного позже я узнала, что в этой усадьбе частым гостем был поэт Жемчужников, дальний родственник семьи. У Зоиной бабушки хранились альбомы с его записями, а также много сувениров. (Братья Жемчужниковы и Алексей Константинович Толстой создали образ известного Козьмы Пруткова со всеми его афоризмами).
Зоя вышла замуж летом 1940 года, я была на её свадьбе подружкой невесты (последняя предвоенная свадьба, на которой я побывала). В Латвии уже стояли советские военные базы, в Риге было много офицеров. Когда после церемонии венчания мы выходили из Христорождественского кафедрального собора, мимо проходила группа советских офицеров.
Они все, как один, остановились и смотрели на нас. Было на что посмотреть! Красивые молодожёны: жених – во фраке, Зоя – в длинном белом платье с фатой и огромным букетом лилий в руках. За ней мы, подружки невесты, в голубых длинных платьях и с одинаковыми букетами в руках, и дружки жениха в тёмных костюмах, дальше – старшие: родственники и гости. Так эти офицеры и стояли, пока мы не сели в машины и не уехали.
Зоя вышла замуж за Ростислава Маслова-Беринга (1914-2007). Он был активным членом «Сокола», и 14 июня 1941 года его вывезли в Сибирь. Зоя не была внесена в список на депортацию, но просила, чтобы ей позволили ехать вместе с мужем, потому что она ждала ребёночка. Позволили, но ехали вместе только до одной станции, откуда каждому дальше полагалось ехать в другом вагоне. Поскольку Зоя была свободной, она смогла устроиться в Сибири на работу в колхоз, и только через несколько лет узнала, где находится её муж. Вторично, наивно понадеявшись быть вместе с любимым мужем, она отправилась к нему весной (где подвезли, где шла пешком по тонкому льду) с ребёнком на руках. А когда добралась до цели, оказалось, что она лишняя, не нужна, потому что у него уже есть другая жена… Удивительно, как у Зои хватило сил заново устроиться в чужом месте и не сломаться! В конце концов она вернулась в Латвию. Уже после восстановления независимости она получила компенсацию за имение деда.
Зоя осталась единственной из своего рода. Дедушка и бабушка успели умереть ещё до начала репрессий. Их сына и Зоиного дядю Константина в 1941 году застрелили (он управлял усадьбой и также был членом «Сокола»). Его сестру выслали в Сибирь. Отец Зои, мачеха и сводная сестра в конце войны эмигрировали, и все умерли в Германии. В усадьбе Лоборжи поселились колхозники, и в соседних домах ещё и сейчас можно увидеть утварь и стильную мебель, вынесенную оттуда.
Жизнь Зои весьма показательна и соответствует той эпохе, именно поэтому я так подробно её описываю.
Тамара и Зоя оставались моими подругами всю жизнь. Остальные девочки были подругами только в юности. Очень скоро мы разбежались кто куда, и только о судьбе некоторых я кое-что знаю.
Уже в основной школе была заметна моя гуманитарная направленность, и в гимназии это стало очевидным. Училась я усердно, и считалась хорошей ученицей. Это только благодаря моему отцу. Если по математике появлялась тройка или, не приведи Господь, двойка, мне тут же следовало отправляться к репетитору (студенту-математику, который подрабатывал частными уроками), который вдалбливал мне соответствующий материал.
Свободное время я, главным образом, проводила в гимназии, иногда у Тамары. Домой ездила (за мной приезжали на нашем коне Орлике) раз в две недели, зимой ещё реже. Конечно, бывала дома на праздничных каникулах (Рождественских и Пасхальных) и осенью, во время уборки урожая, на так называемой «картофельной неделе». Поскольку я была всегда при деле, мне никогда не бывало скучно.
В гимназии укрепилась традиция, с которой я познакомилась ещё в детстве, – совместно отмечать праздники. Задолго до Рождества начинали готовить обширную программу. Особенно запомнился один Рождественский праздник, который проходил в Народном доме. Забыла уже, какого числа он был, скорее всего, перед тем, как отпустить нас на целую неделю домой на каникулы.
Под руководством педагогов разучили две пьесы: одну на русском языке, другую – на латышском. Работы хватило всем, поскольку готовили ещё и декорации: по указанию учителя Микирова их малевали сами ученики, а в плотницких работах помогал учитель труда. К тому же, всех актеров следовало одеть в соответствующие костюмы. Шили их сами, призывая на помощь матерей. Мне помогала Тамарина мама. Поставили одно действие из «Майской ночи» Гоголя – сцену у пруда с танцем русалок. Для исполнявших его девочек были сшиты балетные пачки из накрахмаленной марли.
Я участвовала в постановке латышской пьесы. Ни автора, ни названия не помню. Я была занята в сцене ужина. Мы, девочки, сидели в хуторской комнате и занимались рукодельем: шили, вязали, одна из нас пряла, пели, а мальчики что-то мастерили. По сценарию идиллию прерывал местный ловелас. Публике очень нравился этот персонаж (роль играл Миша Трубецкой) 18. По всему облику – одежде, манерам, ломаному языку зрители понимали: перед ними самый настоящий немецкий ловелас. Мы, все остальные, были в латышских народных костюмах. Кажется, их раздобыли в каком-то латышском хоре (все костюмы были одинаковыми). После постановок шли отдельные номера. Так, четыре девочки, среди них и я, танцевали тарантеллу в итальянских костюмах. Среди публики были родители учеников, работники гимназии, представители городской интеллигенции.
Помню одну весёлую Масленицу с традиционными блинами, их жарили и ели в столовой интерната. К блинам, как обычно, подали плавленый сыр, сметану, селёдочный форшмак и творог. Но интереснее всего было на кухне, где жарил блины учитель Михаил Павлович Большесольский. Сняв пиджак, он остался в жилетке, затем закатал рукава рубашки и повязал белый фартук. Жарил он виртуозно: быстро и ловко. Дамы едва поспевали подавать тарелки с горами блинов дежурным, чтобы те несли их в столовую. Тесто было замешано в большой кадушке. Жарили на дровяной плите, за которой следила одна девочка. Так Михаил Павлович творил в окружении девочек и дам. Когда все были накормлены, он пошёл танцевать свой выдающийся вальс.
Согласно старинным традициям готовились к Пасхе. Вместе шли ко Святому Причастию – все учащиеся по классам и педагоги. А саму Пасху праздновали дома, потому что были каникулы.
Свою Лудзенскую гимназию я вспоминаю с радостью и благодарностью не только как школу, но и как истинный центр культуры. В гимназии регулярно читались интереснейшие лекции (их готовили наши педагоги и приглашённые лекторы), которые активно посещала местная интеллигенция. К примеру, лекции о музыке проходили в музыкальном сопровождении: в Лудзе было достаточно людей с соответствующим образованием. Также бывали и концерты.

В Лудзенской правительственной русской гимназии. В центре классная наставница Мария Викторовна Микирова, слева от неё Татьяна Асташкевич. 2-я слева в 3-м ряду - Зоя Больман. В 4-м ряду 2-й слева - Владимир Павловский
Самым блестящим лектором был директор нашей гимназии Иван Димитриевич Поляков. Его выступление – «Крылатые русские слова» – мне особенно запомнилось. Остроумно и живо он рассказывал, как в народе появились некоторые выражения. Например, «дело – табак». Оказалось, что оно пришло от волжских бурлаков. Когда они заходили слишком глубоко, где вода доходила до пояса, главный ватаги кричал: «Табак!» Тогда все свои кисеты с табаком они клали на головы под шапки, чтобы табак не намок. Подобных выражений на Волге появилось довольно много.
Особая роль отводилась гимназии при проведении Дней русской культуры: в её стенах проходила большая часть программы. Выступали наш хор и танцоры, а также отдельные солисты. В гимназии проводились и благотворительные мероприятия, которые общество всегда поддерживало, ведь собранные средства поступали нуждающимся ученикам.

Дни русской культуры в селе Михалово Мердзенской волости Лудзенского уезда, начало 1930-х годов. Выступает хор "Искпа". Руководитель хора И.И. Асташкевич. Крайний справа, перед сценой, депутат Сейма Леонтий Шполянский

Дни русской культуры в Лудзе, 1935 год. В центре дирижёр хора Константин Грудовик. Татьяна Асташкевич во 2-м ряду (сидит) 2-я справа
Когда я оглядываюсь на свои юные годы, гимназисты и педагогический состав кажутся мне одной семьей. Но это не означает, что мы держались изолированно от других, особняком, напротив, нас часто приглашали на различные мероприятия в латышскую гимназию. Я была там несколько раз (конечно же, не одна, а вместе с Тамарой и её отцом) на представлениях и танцах. Ярко вспыхивает в памяти концерт с участием певицы Хелены Козловской-Эрсы 19 и писателя Яна Яунсудрабиня 20. Днём писатель побывал в нашей гимназии один. Он прочитал некоторые свои рассказы, среди них «Мальчик в бане». Когда он читал этого «Мальчика», мы от смеха чуть животы не надорвали. Яунсудрабинь выступал великолепно и выглядел очень приятно. Вечером он выступал ещё и в латышской гимназии, там же пела и Козловска-Эрса. Наверное, было что-то ещё, но я помню только певицу и, главное, писателя, который оставил неизгладимое впечатление.
Однажды наш хор должен был поехать на праздник айзсаргов (военизированное формирование в Латвии 1919 – 1940 годов – ред.). Латышские песни, в том числе из латышской классики, в нашем репертуаре были. Срочно надо было выучить несколько духовных песен. Помню только псалом «Господь Бог – наша крепость». На праздник нас отвезли на машине. Если не ошибаюсь, местечко называлось Рунторта. В здании бывшей усадьбы устроена школа. Вначале было богослужение (лютеранское), на котором мы пели, затем нас усадили за богато накрытые столы и накормили, после были танцы. Обратно нас отвезли вечером, около десяти, в сопровождении Анны Юрьевны Свэнне. Вероятно, она и была инициатором этого вечера. Хочу отметить, что никто на нас косо не смотрел, и никто ни разу не сказал мне презрительно «криевене» (уничижительное обозначение русских женщин - ред.). Как уже упомянула, мы участвовали в празднике айзсаргов, и те любезничали с нами и танцевали так же, как и с латышскими девушками. Правда, мы все бегло говорили по-латышски…
В Лудзе была ещё одна семья, к которой я всегда могла обратиться в случае необходимости, – семья владельца магазина книг и канцелярских товаров Мордуха Бунимовича. Интеллигентная, верующая еврейская семья. Мой отец на протяжении многих лет покупал всё необходимое только у Бунимовича. Этот их деловой контакт был исполнен взаимного уважения и доверия. Когда меня только привезли в Лудзу, первая семья, с которой родители меня познакомили, была семья Бунимовичей. Супруга сердечно нас приняла, угостила обедом, сказала, что очень понимает, как я себя чувствую, будучи оторванной от семьи. Я впервые была в еврейском доме, и мне всё было очень интересно.
Старший сын Бунимовичей Мейер учился в нашей гимназии. Мне было сказано, что в магазине Бунимовича у меня будет своя «кредитная книжка»: всё необходимое для школы я буду получать «на книжку», а отец, приезжая в Лудзу, будет рассчитываться сразу за несколько моих покупок. Так я была обеспечена всем необходимым. Несколько раз приходилось просить у Бунимовича небольшие суммы денег на непредвиденные расходы в гимназии. У Бунимовичей же я приобрела свои первые почтовые карточки и открытки. Это юношеское увлечение в конце моей жизни превратилось в ценную коллекцию, получившую признание специалистов. Большая её часть хранится в Музее истории Риги. Вся семья Бунимовичей 14 июня 1941 года была депортирована. Сам Мордух Бунимович в Вятлаг в Кировской области (он умер там в 1944 году), его супруга Раина, оба сына, Мейер и Соломон, и дочь Эсфирь – в Красноярский край. Впоследствии они были освобождены.
Ещё хочу рассказать, что в Лудзе работал великолепный фотограф В. Франк 21. На многих фотографиях из моего альбома стоит его печать. Я только недавно узнала, что фотографии Франка сейчас весьма ценят, и они являются предметами коллекций. Между прочим, сын фотографа – известный режиссёр Герц Франк 22.
Теперь немного о самой Лудзе. Городок находится на берегу озера. Точнее, на берегах двух озер, которые соединяются между собой небольшим перешейком. На пригорке старинное поселение латышей, именуемое Одукалнс, и развалины рыцарского замка. Там же поблизости на довольно высоком холме стоит красивый католический костёл, который являлся главной достопримечательностью города. На полпути к церкви – красивый образ Мадонны, который создал скульптор Томашицкис 23. Я помню его открытие и освящение. Упомянутая церковь в стиле барокко сгорела во время большого пожара, если не ошибаюсь, в 1938 году, когда выгорела половина города. Сейчас на её месте стоит новый костёл.
Пожар и война не уничтожили православный храм, который открыт и сегодня – красивый, белый, в стиле ампир. В этот храм мы ходили на богослужения и причащались.
Достойны внимания оба Лудзенских рынка. Площадь «для продажи лошадей» я уже упомянула, описывая здание гимназии. Ими торговали по особым дням, и тогда площадь действительно была полна лошадей и людей.
В Латгалии можно было увидеть очень красивых и ценных лошадей. Проходили также и скачки, в том числе зимой на льду озера. Было интересно наблюдать, даже дух захватывало. Зрители забирались на городище и оттуда следили за скачками. Внизу, на озере, трасса была обозначена ёлочками. Некоторые участники ехали на специальных лёгких санях для соревнований, но часто победителями становились не они, а те, кто выступал на простых санях. Хвалились основательно. Представление, конечно же, было бесплатным.
Вторая базарная площадь находилась в центре города. Здесь селяне прямо с возов торговали своими продуктами и глиняными поделками: горшками для молока, цветочными горшками, мисками, кружками и кружечками, покрытыми глазурью и не покрытыми и даже с орнаментом. Вся эта посуда была нужна в хозяйстве, стоила сантимы и «керамическим искусством» стала намного позже.
Лудза – небольшой городок с маленькими магазинчиками. Про кино я уже писала, проходили также театральные гастроли в Народном доме. В целом же тихий городок. По большим праздникам приезжал цирк, ставили балаган, но, как я заметила, солидные люди его не посещали. Других развлечений в городе не было, вероятно, поэтому сложился странный обычай ходить на станцию встречать рижский поезд, который прибывал вечером. Многие элегантно нарядившиеся дамы и господа прогуливались по перрону, встречали поезд и расходились. Вероятно, это было нечто схожее с прогулкой по Бродвею и Пятой авеню – людей посмотреть, себя показать.
Событием был также парад 18 ноября, на котором маршировали не только военные, спортсмены и скауты, но и школьники. Эффектнее всех смотрелись пожарные со своей экипировкой, оркестром, брандмайором и руководством. Это было добровольное общество пожарных, во главе которого шагал доктор Бедржицкий.
Как я уже упомянула, в Лудзе и её окрестностях, жило много образованных людей, особенно русских. В округе в своих усадьбах жительствовали их владельцы (например, бывший губернатор Витебска Арцимович 24, внучка которого училась в нашей гимназии), в городке обустраивались бывшие офицеры и другие эмигранты, получившие латвийское подданство и работу. Так что Латгалия вовсе не была захолустьем, как некоторые о ней думают сегодня.
Надо рассказать о поездке Карлиса Ульманиса по Латгалии 25. Его маршрут пролегал по дороге из Лудзы в Карсаву через наш поселок Михалово. Поскольку школа находилась на обочине дороги, прямо напротив неё (наверняка по указанию «сверху») поставили «почётные ворота», сплетённые из дубовых веток. Я очень радовалась тому, что столь памятное мероприятие происходит именно летом, когда я дома и могу всё увидеть и ощутить.
Было воскресенье. Священник в церкви сказал, чтобы люди не расходились, потому что мимо поедет сам Ульманис. Но люди и так всё знали, включая даже час, в который может подъехать «народный вождь». Наконец зазвонили колокола – это с колокольни храма увидели, как появился «президентский кортеж». На первой машине подъехали журналисты и какие-то военные. Спросили, всё ли у нас в порядке и знаем ли мы, как выглядит Ульманис . Какой глупый юмор! Мы все собрались в воротах. Впереди, по центру, стоял мой отец, он держал в руках поднос, накрытый расписным полотенцем. На подносе – ржаной хлеб, испечённый мамой, и солонка. По обе стороны от отца стояли две девочки с цветами (одна из них я). Цветы - георгины и астры были из собственного сада: выращенные своими руками и собранные в роскошные букеты. Мне нужно было преподнести цветы Ульманису, второй девочке – генералу Балодису. Чуть дальше стояли два священника в полном облачении. У одного в руках крест, у второго Евангелие в красивом переплёте с серебряным окладом. Ещё дальше стояли учителя и весь «народ». Отец отчеканил приветственную речь и поднёс хлеб-соль.
Затем на русском языке стал выступать отец Никанор Трубецкой 26, что по сценарию не предполагалось. Отец Никанор сам так решил, хотя второй священник, отец Борис Раман 27 из Голышевского прихода, латыш, мог всё великолепно сказать по-латышски. Всё шло гладко, пока отец Никанор произносил обычные слова приветствия. Но затем он начал говорить, что благодаря заботам господина президента у нас всё хорошо, не так, как в соседнем государстве, где преследуется вера, где страдает народ. И так далее в том же духе... Мой отец бросил быстрый взгляд на президента, но тот едва уловимым кивком и даже больше глазами показал, что пусть священник продолжает. На его лице даже была улыбка. Кто-то из учителей тронул отца Никанора сзади за плечо, шепнув: «Батюшка, заканчивайте». Отец Никанор завершил свою речь и благословил крестом. Теперь мне нужно было преподнести цветы. Я приближалась к президенту и всё время смотрела на его лицо. Он улыбался и – странно! –выглядел очень добрым. Затем он пожал каждому руку и уехал. Я долго думала обо всём этом «представлении». Мне Карлис Ульманис показался простым, почти как сельский хозяин, и добрым в противоположность многим его министрам, особенно военному – генералу Балодису, выглядевшему важным, торжественным и недоступным. Была удивлена, что и у многих взрослых осталось такое же впечатление.
Так наша жизнь продолжалась без каких-либо особых перемен, пока не наступил 1935 год. И тогда среди ясного неба прогремел гром. Весной, незадолго до окончания учебного года, нас потрясло неожиданное известие: закрывают нашу гимназию, нашу дорогую школу, которая являлась источником света не только для нас, но и для всех жителей Лудзы! Мы узнали, что во всей Латгалии оставлена одна-единственная русская средняя школа в Резекне. И ещё в Даугавпилсе при латышской гимназии сохранена параллель русских классов, чтобы учащиеся последних могли доучиться и получить аттестат.
В тот день на утреннюю молитву в актовом зале собрались все педагоги. Глядя на их вытянутые лица, мы чувствовали, что произошло что-то неладное. Когда утренняя молитва закончилась, директор прочитал нам приказ министра образования о закрытии гимназии и очень коротко сказал несколько слов. Корректно, сдержанно, но дрожащим от переживания голосом. Тут все – и ученики, и учителя, расплакались. Так мы и стояли строем, не шевелясь, и молча плакали.
Не знаю, сколько прошло минут, прежде чем директор сказал: «Идите по классам». Мы разошлись, как обычно, но заговорили только в классе, а отойти от шока не могли весь день. Никаких предчувствий этого события у нас не было, кроме, пожалуй, единственного: по неизвестным и непонятным причинам уже в начале 1934/35 учебного года был уволен наш директор Иван Дмитриевич Поляков, светлая личность и великолепный педагог, которого все любили и уважали.
Я уже писала, что Лудзенская гимназия была не только учебным учреждением, но и культурным центром для всех русских жителей города и окрестностей. С этого момента культурная жизнь русского общества стала затухать.
Что делать дальше? Некоторые мои одноклассники уехали учиться в Резекне, другие поступили в латышскую гимназию здесь же в Лудзе, кто-то вообще остался без среднего образования…
Осенью я тоже поехала в Резекне. Жила в одной комнатке с Зоей Больман у нашего бывшего директора И.Д. Полякова, который после освобождения от должности переехал сюда. Он преподавал в Резекненской гимназии латинский язык (а историю преподавал директор гимназии Иван Петрович Тутышкин 28, тоже выдающаяся личность). Иван Дмитриевич с семьей снимал небольшой домик на окраине города. Всё устроилось довольно хорошо: мы с Зоей у них и жили, и столовались. Вот только домой попадали очень редко, лишь на длинных каникулах. Впрочем, Зоя часто ездила к своей бабушке, поскольку та жила всего в нескольких километрах от Резекне.
Все классы гимназии были переполнены, поскольку сюда прибыла молодёжь из Лудзы, Карсавы, Яунлатгале (ныне Пыталово – ред.) и других мест. Половина ребят из моего нового класса были моими старыми одноклассниками. К тому же мы с Зоей сидели за одной партой, и я быстро привыкла к новой школе. Из учителей мне больше всех нравился сам директор, который преподавал историю. Он был очень приятный, толково говорил, было видно, что любил детей. Так получилось, что мне везло с учителями истории: все они (как в школе, так и позже в Риге) были очень эрудированными, а, главное, хорошими педагогами. Об остальных учителях мне нечего особо рассказать, так как в Резекне я училась недолго.
В гимназии были различные кружки, великолепный оркестр и прочее, но меня это мало касалось. Зато мне очень понравилось одно мероприятие, какого у нас в Лудзе не было. Вскоре после начала учебного года нам сообщили, что завтра состоится загородный поход на природу, так что можно явиться в летних платьях (стояли ясные тёплые дни бабьего лета). Утром во дворе гимназии собралась довольно пёстрая толпа. Одеты были кто во что горазд. Многие пришли в скаутской форме, некоторые, особенно мальчики, – в школьной. По команде учителя физкультуры все построились. Вышли педагоги во главе с директором, вынесли государственный флаг, и мы браво зашагали через весь город – знаменосцы, играющий марш оркестр, ученики, учителя. На лугу возле опушки устроили состязания, разные игры (даже футбол), пение и прочие забавы. Всё было свободно и непринужденно. Прискакали верхом на лошадях некоторые родители, из кухни привезли в больших котлах горячий обед. Вечером также красиво и бодро шагали обратно.
На меня очень повлияло пребывание в гармоничной патриархальной семье Ивана Дмитриевича. Его жена, Юлия Ивановна, была образованной женщиной (перед Первой мировой войной ей принадлежала женская гимназия в Риге). Сердечная и простая, без каких-либо горделивых замашек «неработающих жен», она умела найти общий язык со всеми, особенно с молодёжью. Мне очень нравились общие обеды по возвращению из гимназии. Все рассаживались по своим местам за большим столом: Иван Дмитриевич в одном конце, Юлия Ивановна в другом, мы с Зоей и их три дочери вокруг. Девочки по очереди «дежурили»: накрывали на стол, затем убирали грязную посуду и мыли её. За столом велись неспешные беседы, девочки рассказывали о занятиях в школе.
Старший сын Ивана Дмитриевича и Юлии Ивановны уже окончил гимназию и учился на каких-то курсах в Риге. Приятный мальчик, в начале Второй мировой войны он был призван в Красную армию и пал в своём первом бою. А три дочери в немецкое время заболели туберкулезом и одна за другой скончались. Убитая горем Юлия Ивановна тоже вскоре ушла в мир иной. Иван Дмитриевич уже в начале войны стал священником. Я уже говорила, что он умер в храме, упав в алтаре. Упокой, Господи, их души! Это была одна из самых приятных семей, какую я когда-либо знала. Велико оказалось их влияние на мои взгляды и формирование моей личности.
Заканчивалась самая беззаботная пора моей жизни – светлое детство и прекрасная юность, неразрывно связанные с Латгалией. Там меня воспитали и обучили родители, воспитатели и учителя, и другие замечательные люди, окружавшие меня. Благодаря всем им я получила такие ценности и моральные устои и такую закалку, что меня не сломили (а, напротив, даже давали силы) тяжкие перемены и потери, которые ожидали меня впереди. Благодарю Господа Бога за всё!
В Резекне я проучилась всего лишь одну четверть. Незадолго до каникул за мной приехали родители и брат, и я с большим удивлением узнала, что мы все вместе переезжаем в Ригу… Каким образом и почему всё так произошло, я уже рассказала в воспоминаниях о раннем детстве. До этого я была в Риге только один раз, мы с мамой отдыхали на взморье, тогда же и «осмотрели Ригу».
Первая наша квартира находилась в Торнякалнсе, на улице Брамбергас. Этот район весь утопал в зелени, поэтому наш переезд из сельской местности в столицу не был так ощутим. Но в Торнякалнсе мы не задержались – уже в середине зимы отец купил дом на улице Волгунтес, в котором, как теперь уже можно сказать, я прожила всю свою жизнь. Здесь в то время было так же, как в деревне: улица была немощёной, будто сельская. По утрам по ней гнали на пастбище стадо, вечером коровки возвращались домой. Небольшие частные домики, возле каждого сад с огородом. Вдоль улицы клёны, липы, даже дубы – все они на моих глазах превратились в могучие вековые деревья, и, конечно же, кусты сирени… Благодаря зелени мы здесь обвыклись очень быстро. В дождливые дни перед нашим окном образовывалась великолепная лужа, к ней прибегали ребята со всей округи, запускали кораблики и ликовали. Спустя много лет вдоволь побродить по этой луже довелось и моим детям. Когда улицу заасфальтировали, всем ребятишкам было очень жалко. И мне было жаль. Жаль расставаться с покоем и тишиной. Ведь в те времена, когда мы здесь поселились, машины по нашей улице не ездили, только изредка проходила какая-нибудь лошадка.
Вокруг двора, вдоль забора, росли клёны и сирень, а в самом саду – довольно большие вишни, которые давали нам хороший урожай. Уже в первый год, весной, отец посадил четыре яблони и кусты красной смородины. Эти яблони стоят до сих пор. Вишни вымерзли суровой зимой 1940 года. Так что остальные деревья в нашем саду посажены уже мною. Нам сразу понравилось, что вокруг столько зелени и что есть места для прогулок: берёзовая рощица, Шампетерский сосновый лесок и дубовая аллея, ведущая к Шампетерской усадьбе. Улицы Волгунтес и Калнциема вели к настоящим полям и лугам. Вскоре мы нашли дорогу и в Калнциемский лес, куда ходили по грибы и ягоды, а мы с братом отправлялись на велосипедах на дальние экскурсии.
Вскоре мы познакомились с местными достопримечательностями улицы Калнциема. Там, где теперь находится весьма непривлекательный магазинчик со ступеньками, в ту пору был кинотеатр «Голливуд», а рядом с нами, на Волгунтес 48, – библиотека. Библиотекарша была очень симпатичная пожилая дама, с которой мы сразу подружились, особенно брат. Он проводил там время часами, не только изучая все полки, но и помогая библиотекарше. Библиотека проработала до прихода советской власти, позже книги можно было взять в детской библиотеке на углу Калнциема и Апузес, где был большой выбор литературы и для взрослых. Рядом стоял второй дом, в таком же стиле, в нём находилась небольшая фармацевтическая «фабрика». Когда война подходила к концу, и немецкая армия отступала, немцы её взорвали, и целую неделю на улице держался крепкий запах валерианы и других лекарств. Эйкерты – семья владельцев «фабрики» – жили в красивом двухэтажном доме в глубине парка. Миниатюрный парк был великолепно спланирован: красивые дорожки, небольшой пруд с островком посередине. В то время на островке жили две косули. Эйкерта депортировали 14 июня 1941 года, а его семья в конце войны уехала в Германию. В советское время в бывшем доме Эйкертов расположился детский сад, и парк вокруг него содержался в порядке. Остальная территория оказалось запущенной, превратилась в проходной двор, а в тылах парка, где у Эйкертов стояли теплицы, образовалась свалка мусора. В наши дни, то есть во времена независимости Латвии, детский сад ликвидировали. Дом совсем недолго простоял пустой, без дверей, с выбитыми окнами, а затем стал постепенно оседать, до тех пор, пока совсем не исчез. А в 2005 году посреди этой разрухи был построен супермодный дом «крутого» новоявленного богача. Эйкерты так не выглядели, и окружение у них было более приятным. Терпеть не могу таких выскочек.
Мой брат поступил в первый класс 2-й государственной Агенскалнской гимназии. Блестяще учился, отлично окончил гимназию и без экзаменов был принят в университет.
Я поступила в единственную русскую среднюю школу, которую можно было найти в Риге, – в Рижскую правительственную русскую гимназию на улице Акас 10, где раньше находилась Рижская городская русская гимназия (б. Ломоносовская).Класс был переполнен. В 1937 году школу закончили 75 человек, а сколько было, когда я поступила, даже не знаю.
Я попала в класс, в котором были и мальчики, и девочки. Параллельный девичий класс был настолько переполнен, что туда уже больше никого не принимали. Таисия Ивановна Микула 29, классная дама девичьего класса, ввела меня в класс и посадила на свободное место (нашего классного руководителя в тот день не было в школе). Она, помимо своего девичьего класса, следила за девочками нашего класса, преподавала нам домоводство и проводила воспитательные беседы (которые не касались мальчиков). Позже, когда мы уже окончили школу и организовывали слёты нашего класса, мы её всегда приглашали. А когда наступил её последний час, именно мы проводили её в последний путь.
На следующий день состоялось моё знакомство с нашим классным руководителем Николаем Николаевичем Кузьминским 30, который преподавал физику. Он вызвал меня к доске, спросил, какой материал я изучала в своей старой школе (оказалось, что они изучают то же самое), велел мне ответить этот материал и задал несколько вопросов. Я отвечала бегло. Этим он и удовлетворился и больше в течение двух лет ни разу меня не вызывал! Оценки он ставил на основании контрольных работ. Прошло совсем немного времени, прежде чем я поняла, что девочки, сидевшие поблизости, занимаются всем, чем угодно, только не физикой. Однако все сидели очень тихо. Никто никуда не поворачивался и ни с кем не шептался. Я онемела, когда девочка, сидевшая предо мной, достала из сумки большую скатерть и принялась её вышивать цветными нитками. Но Николай Николаевич ничего подобного не замечал. Наверное, считал нас взрослыми людьми, почти студентами. Всё своё внимание он уделял одной группе мальчиков, которые сидели вместе. Я узнала, что это бывшие воспитанники реального класса Ломоносовской гимназии, то есть реалисты, которые собирались поступать на соответствующие факультеты университета. С ними учитель иногда проводил настоящие дебаты, которые нам были даже непонятны. Других мальчиков, конечно же, вызывали к доске, но девочек очень редко.
Подошли выпускные экзамены, и к нашему ужасу одним из них оказался экзамен по физике. Что делать? Выручили так называемые реалисты. Они составили ответы на все билеты, где-то их напечатали, и каждый из нас за небольшую плату получил свой экземпляр. Оставалось только вызубрить. Мне так повезло, что я даже сегодня переживаю эту радость: достался билет, который я выучила наизусть! А я очень боялась, что могу провалиться. Не хочу сказать этим, что Николай Николаевич был плохим педагогом. Как раз наоборот, он был весьма интеллигентным и одним из самых образованных людей своего времени. Помимо интереса к своей профессии, его большим увлечением была русская литература.
Так как Николай Николаевич являлся также общественным деятелем (он был председателем общества учителей, а во время немецкой оккупации – заведующим школьным отделом в рамках Русского комитета), осенью 1944 года он был арестован и через полгода умер в заключении.
Для меня стало большим сюрпризом, что учительницей по русскому языку оказалась Мария Викторовна Микирова, моя учительница из Лудзы. С этим предметом у меня никогда не было проблем, напротив, в последнем классе, когда к сочинениям предъявлялись высокие требования, моё сочинение о Достоевском было представлено как образцовое.
Я уже упоминала, что мне везло с учителями истории. Здесь тоже был выдающийся учитель-историк Василий Васильевич Преображенский 31, чьи уроки незабываемы. К сожалению, уже в 1936 году Министерство образования запретило Василию Васильевичу преподавать историю из-за его общественной деятельности, точнее, из-за некоторых его высказываний относительно нового политического курса. Мы очень переживали. Такой образованный и талантливый учитель, естественно, не был угоден и советской власти, поэтому в 1941 году его репрессировали. Лагерные мучения он смог вынести только четыре месяца, и умер в возрасте 44 лет.
Появились новые учебные предметы – космография и история искусства. Космографию преподавал бывший офицер царской армии в отставке (на войне он потерял ногу) Николай Семёнович Фёдоров 32. Космография, эта всё-таки точная наука, была преподнесена настолько интересно и захватывающе, что стала нашим любимым предметом. Это произошло ещё и потому, что учитель многократно приглашал наш класс к себе домой, в Межапарк (престижный район на окраине Риги – ред.): в его саду мы могли наблюдать за звёздами в телескоп и, так сказать, в естественных условиях закреплять то, что он как теорию рассказывал в классе.
Весьма талантливо преподавал историю искусства Евгений Евгеньевич Климов 33. Его уроки дали нам понимание искусства, развили вкус. Его рассказы всегда сопровождались интересными иллюстрациями. Евгений Евгеньевич водил нас в музеи и на выставки. До сих пор помню посещение большой выставки Богданова-Бельского, которого я хорошо знала по цветным репродукциям его картин в газете «Сегодня» (у меня набралась целая папка с вырезками этих репродукций).
Вот один эпизод. Учась на первом курсе Латвийского университета, я слушала лекции профессора Бориса Виппера 34 по истории искусства и весной сдавала экзамен по этому предмету. Следовало заранее записаться, у меня был 23-й номер. Дома я ещё раз просмотрела свои записи и, не торопясь, отправилась на автобус, поскольку времени хватало. Позже выяснилось, что я вполне могла опоздать, так как отвечал уже 20-й номер: друг за другом «провалились» десять студентов! Всем был задан один и тот же вопрос – объяснить понятия «color» (колорит) и «valeur» (градация светотени). Огорчённый профессор, услышав, наконец, чёткий ответ, больше этот вопрос никому не задавал. Когда я вошла, он был внешне спокоен, однако следы огорчения на лице ещё были заметны. Он задал мне три вопроса. На первый (о греческой скульптуре) следовало ответить подробно, на остальные – одним предложением. Попросил зачётную книжку, расписался, затем открыл первую страницу и прочитал мою фамилию. Последовал вопрос: «Какую гимназию Вы окончили?» – «Государственную русскую гимназию». «Историю искусства Вам преподавал Климов?» – «Да, Климов». «Вы с ним видитесь?» – «Да, иногда». «Когда снова увидитесь, передайте от меня привет и скажите, что экзамен по истории искусства Вы сдали отлично!» – «Спасибо, господин профессор». Здесь следует добавить, что профессор Виппер был весьма скуп на комплименты.
Очень много мне дал преподаватель Закона Божьего, благочинный Рижского округа протоиерей Николай Перехвальский 35. Его уроки в действительности можно было назвать уроками этики и введения в философию. Когда, будучи уже в университете, я слушала лекции по философии, то весьма легко воспринимала их и также легко готовилась к экзаменам: отец Николай соответствующим образом «причесал мне мозги». Это был высокообразованный священник, редактор духовного православного журнала «Вера и жизнь» 36. Позже, когда я вступила в студенческую корпорацию «Sororitas Tatiana» 37, подружилась с его дочерью Ираидой (Раей) и часто бывала у них в квартире (в доме на улице Бривибас, как раз напротив Александро-Невского храма, где служил отец Николай). Там можно было наблюдать священника в домашней обстановке – он был очень сердечным, всегда интересовался собеседником. От мирской жизни был далёк, все практические вопросы решала его матушка. Этим нередко пользовались дети: сын-метеоролог (он преподавал в нашей гимназии математику) и дочь-студентка (моя подруга Рая). В качестве иллюстрации. За обедом Рая говорит отцу, что ей к празднику надо сшить новое платье, но не хватает немного ткани. Отец спрашивает: «Сколько надо?», Рая отвечает: «Примерно три (?!) метра». Следует распоряжение: «Матушка, выдай дочери денег, чтобы докупила». В конце войны, когда начались массовые отъезды, протоиерей Николай и вся его семья вместе с архиепископом Иоанном (Гарклавсом) 38 и Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы отправились в Германию, а оттуда в Америку. Когда было возможно, Рая присылала мне оттуда немного долларов и (вместе с подругой по корпорации «Sororitas Tatiana» - Галиной Аболиней) какую-нибудь посылочку. Теперь уже они все упокоились на чужбине.
Надо сказать, что педагоги великолепно справились с чрезвычайно трудной задачей сплочения нашего коллектива. Мы съехались в Ригу почти со всей Латвии. Необходимостью переезда все были огорчены, но об этом не говорили и вслух не роптали. Но потихоньку мы привыкли и, в конце концов, стали дружной, большой семьёй. Первый раз наш класс (все, кто к тому времени остался жить в Риге) собрался после войны, на 25-летие окончания школы. Торжество состоялось в моём доме на улице Волгунтес. Позже собирались каждый год, и с нами всегда была Таисия Никифоровна. Уже на праздновании 25-летия окончания школы нас было только 15 человек: война и оккупация основательно проредили наши ряды. На эти «слёты» приходило только трое «мальчиков» – архитектор Лев Алюнин, юрист Коля Герасимович и зубной техник Димитрий Плехневич. Из одноклассников сейчас живы только Димитрий и пять «девочек»... (сведения на начало 2000-х годов – ред.)
Закончило своё существование и общество выпускников, которое каждый год устраивало слёты выпускников всей гимназии, которых с каждым годом становилось всё меньше... Из моих одноклассниц в последние годы много общалась с Маргаритой Салтупе (ур. Морозовой; 1917-2006) – врачом, которая жила в Кемери и активно популяризировала творчество нашего бывшего учителя Е.Е. Климова. Не могу не вспомнить мою близкую подругу Людмилу Кёлер-Земмеринг 39, юриста. Вместе с семьей она уехала из Латвии, жила в США, стала профессором, преподавала русский язык в каком-то университете. Написала книгу о нашем архиепископе Иоанне (Поммере), затем уехала в Иерусалим, поступила в монастырь, где приняла монашеский постриг с именем Иоанна (в честь архиепископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Поммера)).
Но я сильно забежала вперёд. Гимназию я окончила в 1937 году (в год юбилея Пушкина, который мы широко отмечали). В том же году окончила курсы бухгалтерии, машинописи и стенографии. Стенографию я не использовала и очень быстро забыла, но бухгалтерия, а именно делопроизводство и машинопись, мне в дальнейшем очень пригодились. Главное, чем занималась в следующем году, была подготовка к вступительным экзаменам в университет. Самое пристальное внимание я уделяла латышскому языку. Чтобы попасть на филолого-философский факультет, было недостаточно безупречно владеть им, и я посещала специальные курсы Альмы Ратерман, на которых подготавливали к вступительным экзаменам в университет.
Госпожа Ратерман была выдающимся педагогом. К ней меня отвели мои одноклассники, которые хорошо её знали: долгие годы Альма Ратерман проработала в Ломоносовской гимназии. Она также была автором учебников латышского языка (вместе с коллегой по фамилии Какис). Курсы Альмы Ивановны действовали уже много лет, все ловушки и хитрости экзаменаторов ей были хорошо известны, особенно на медицинском и филологическом факультетах. На медицинском факультете все тогда отчаянно боялись профессора Плакиса 40, а на филологическом – известного лингвиста профессора Яниса Эндзелина 41. Но Альма Ивановна всегда угадывала темы сочинений и примерно знала, что могут спросить. Так как она довольно хорошо подготавливала своих курсантов, большая их часть выдерживала экзамен.
Итак, мой латышский язык на вступительном экзамене проверял профессор Я. Эндзелин. На сочинении были даны две темы. Я выбрала свободную – природа Латвии. Вторая тема предполагала сравнение латышского хутора времён Блауманиса 42 с современным. Профессор велел в верхней части листа, где были написаны имя и фамилия, дописать ещё номер школы и фамилию учителя латышского языка. Когда подошёл мой черёд отвечать устно, профессор велел мне сесть рядом с ним (обычно полагалось садиться напротив). Перед ним лежало моё сочинение, и я сразу увидела, что никаких исправлений не было, только красная черта в конце одного предложения. Профессор обратил внимание на моё имя и школу, сказал, что всё написано правильно, только одно предложение ему не совсем нравится, так как это типичный газетный стиль, и посоветовал в дальнейшем такие выражения не употреблять. Затем велел рассказать про Екаба Апситиса 43. Едва я начала рассказывать, он прервал вопросом: «А что Вы скажете о выражении: «Pie labas gribas var daudz ko sasniegt»?». Я ответила: «Нехорошо сказано». – «А как вы бы сказали?» – «Ar labu gribu var daudz sasniegt». На это профессор заметил: «Будем надеяться, что и Вы по доброй воле многого добьётесь. До свидания». И это был весь экзамен. Я тут же побежала к Альме Ивановне, чтобы всё подробно рассказать и поблагодарить. Она сказала, что профессор не зря велел отметить школу и учителя: увидел, что я, русская, владею латышским языком безупречно и произношение, похоже, его тоже удовлетворило. Но этот первый экзамен в университете стал для меня незабываемым. Могу себе представить, как был бы расстроен профессор Эндзелин, который всю свою жизнь боролся за чистоту латышского языка, если бы услышал, как сегодня засорен язык латышей.
Мне посчастливилось слушать лекции выдающихся учёных, познакомиться с академической жизнью и красивыми традициями. Учебный год в университете начался с торжественного акта в Большой ауле (зале). С академической речью на латинском (!) языке выступил профессор Август Тентелис 44. Профессора были торжественно одеты – в мантиях и головных уборах. Студенты в тёмных костюмах, студентки в чёрных или тёмных платьях. К вечеру также были отслужены молебны: в Большой ауле для лютеран, в Малой, куда пошла и я, – для православных. В Малой ауле служили на церковнославянском и латышском языках. Не помню, где происходил молебен для католиков.
Особенной торжественностью отличались шествия на Братское кладбище 18 ноября. Шествие возглавляли профессора, за ними шли студенческие организации: корпорации, конкордии 45, объединения, различные общества. У всех присутствующих в руках были ёлочные веточки (они были навалены под липами перед зданием университета, откуда их и разбирали).
Как было принято в то время, преподаватели шли в чёрных пальто с бархатным воротником, белым кашне и в цилиндрах, у некоторых вместо цилиндров были котелки.
Наиболее выдающимися лекторами, которых мне довелось слышать, были: профессор Т. Целмс 46, А. Швабе 47, Б. Виппер, Л. Берзиньш, Э. Штурм, Я. Силиньш 48, Ф. Балодис 49, Р. Виппер 50.
Немного подробнее расскажу о профессоре Августе Тентелисе. Министр образования, очень уважаемый человек, он читал лекции и вёл семинары по истории средних веков. Говорили, что, если сдашь экзамен по его предмету, можешь считать, что университет ты окончил: настолько серьёзным и трудным он был. Мне не довелось сдавать Тентелису экзамен: пришла советская власть, и профессора здесь уже не было. Но у него я разработала семинар, о чём расскажу подробнее. Лекции же профессора были ужасающе скучными, однако все их посещали: всё-таки министр, важная персона и так далее.
Лекции проходили так. Профессор усаживался на кафедре по центру длинного стола с зашитой передней стороной (стол стоял на возвышении в 29-й аудитории) и спокойным, тихим голосом монотонно читал с тетради. Записывать за ним было очень трудно, потому что уже через 15 минут начинало так клонить в сон, что нужно было не записывать, а придерживать глаза, чтобы совсем не закрылись. Затем шли бесконечные цитаты на латинском языке, при этом профессор приговаривал: «А теперь я прочитаю на всем вам хорошо известном латинском языке, что об этом сказал выдающийся историк такой-то…». И следовала цитата на целую страницу. Поэтому к экзамену все готовились по толстому учебнику на немецком языке, по которому профессор и спрашивал.
Удивительно, что семинары проходили совсем по-другому, там надо было интенсивно думать и работать. Меня туда затащили однокурсники Эдгар Шитте (погиб на войне, очень светлый и умный мальчик) и Альфред Яунушанс (актёр, в то время посещал театральные курсы, а позднее стал режиссёром Латвийского Национального театра). Оба мальчика окончили Елгавскую классическую гимназию. Кроме этих парней, на семинары записались: ещё один наш однокурсник – незрячий молодой человек, одна «старая» студентка и один уже пожилой господин, который поступил в университет вместе с нами и держался тоже вместе с нами. Чтобы как-то разнообразить этот круг, мальчики уговорили меня, пообещав, что они меня «вытянут» и всё будет хорошо (латинистка я была более чем слабая).
Вот как проходили семинары. За столом в той же самой 29-й аудитории неподвижно восседал сам профессор. За первой партой сидел незрячий юноша, для него специально была заказана книга со шрифтом для слепых. За второй партой, на краешке, сидела «старая» студентка (мы её звали старой девой и не общались с ней, однако она была чрезвычайно умной). Затем, уже за третьей партой, сидели латинисты Яунушанс и Шитте, между ними я и пожилой господин, тоже довольно умный. Мы должны были читать и переводить «Vita Caroli Magni» («Жизнь Карла Великого») Эйнхарда и ещё написать реферат. Тему каждому из нас дал сам профессор и даже порекомендовал литературу. Мне он выделил тему «Церковь во времена Карла Великого», сказав, что книгу на немецком языке можно взять на дом в факультетской библиотеке. С рефератом я справилась и успешно его защитила. А с Эйнхардом 51 было так: читали поочередно, каждый прочитывал абзац и тут же переводил. И мне мои добрые коллеги друг за другом шептали на ухо перевод. Школьная уловка…
Прошли годы, закончилась война, и я возобновила занятия в университете. Постаралась скорее сдать все долги и была допущена к государственным экзаменам. Оставался всего один «хвост», который я и не смогла бы сдать, потому что всё уже забыла, а выучить на скорую руку была не в состоянии – 2-й курс латинского языка. Преподавателей по латинскому на факультете больше не было, и в деканате мне посоветовали обратиться к П. Гурвичу. Он был молодым лектором (я помнила его ещё студентом), очень одарённым и ярким. По прозвищу «Комета», по национальности – еврей. Говорили, что он остался в живых благодаря тому, что его прятала коллега-студентка. Я честно поведала ему свою историю. Он только спросил, делала ли я что-нибудь по латыни во время учёбы. Сказала, что разработала семинарскую работу у профессора Тентелиса, на что Гуревич тут же воскликнул: «Что означает семинар у профессора Тентелиса, я хорошо знаю! Имеется ли у Вас также подпись профессора Тентелиса?» Увидев в моей зачётке профессорскую подпись, он тут же поставил «отлично» и расписался, и на этом моя эпопея с латинским языком успешно закончилась.
Мне очень нравились лекции доцента Яниса Силиньша по истории искусства. Я весьма успешно написала у него две семинарские работы. Со своими рефератами (о Рембранте и Родене) мне полагалось выступить на занятиях, поскольку доцент посчитал их достойными того. Я думала, что мне следует специализироваться именно на истории искусства. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Неожиданно всё случилось иначе. Судьба свела меня с профессором Францисом Балодисом.
Профессор Францис Балодис в археологии Латвии был легендарной личностью. О нём много говорили. Он окончил Московский университет, специализировался на истории Египта у известного русского египтолога Тураева и женился на его дочери. Говоря о личности Франциса Балодиса, упомяну о квинтэссенции философско-религиозной доктрины (я прочла её на памятнике жене профессора на Лесном кладбище): «Куда ты пойдешь — туда и я пойду, где ты заночуешь — там и я заночую; твой народ — мой народ, и твой Бог — мой Бог» (Руфь 1: 16).
Профессор Балодис читал историю Египта и археологию. Лекции были богаты иллюстративным материалом – слайдами. Ближе мы познакомились на раскопках.

Семинар у профессора Францса Балодиса в Латвийском университете )1939 год).
1-й ряд слева направо: Аустра Поруа, Велта Зунде-Грике, Луция Ванкина, Констанце Озола, ?, ?, Петерис Арендс, профессор Францис Балодис, ?, ?. ?, Татьяна Асташкевич-Павеле. 2-й ряд сдева направо: Пауль Лапиньш, ?, Карлис Осис, ?, Эдуард Крастиньш, Валия Холма, Элга Руденая (впоследствии директор Мадонского музея), Аустра Сакне, Расма Цеплите, Петерис Степиньш, Мелита Ландорф, Бирута Кемпава, Робертс Дукурс, Мета Аусекле-Павеле, ?, Александра Аузане, Мирдза Лапа, Рихард Арвид Янсонс
Первые раскопки, в которых я участвовала, происходили на Дигненском городище. Раскопками руководила Эльвира Шноре 52. Для неё это тоже были первые раскопки. Напротив Дигненского городища, на правом берегу Даугавы, раскопками на Ерсикском городище руководил сам профессор Балодис. Здесь я познакомилась со старшими коллегами: Петерисом Степиньшем, Люцией Ванкиной, Констанцией Озолой и другими.
Профессор Балодис часто любил повторять слова своего отца: «Кто прошлое изучает, тот будущее благословляет!» Под влиянием профессора и мы стали считать сам процесс раскопок значимым, благословенным, в известной степени торжественным.
Когда я приехала в Дигнаю, работы там уже шли полным ходом. Была удивлена, увидев развевающийся государственный флаг (его торжественно поднимали, начиная работы). Рабочий день начинался ровно в 7.00 с построения всего коллектива возле государственного флага лицом к Даугаве и возгласа: «Да здравствует!» Из Ерсики раздавался ответ. Для сообщения между городищами использовали лодки. Иногда с той стороны раздавался выстрел револьвера и крик: «Приезжайте сюда!» или «Баузе, приезжай!» (так звали художника), или же «Шноре, приезжай!» (это профессор вызывал госпожу Шноре). Бывали и общие посиделки у костра с пением песен.
Торжественно был отпразднован день рождения профессора. Меня там тогда ещё не было, но лодочник, перевозивший меня через Даугаву около Ливаны, с восторгом рассказывал, как студенты пели всю ночь. Студенты, в свою очередь, поведали, что несколько молодых особ проявили ненужную сознательность и рано ушли с праздника, чтобы к семи утра быть на работе. А утром профессор отпустил на целый день тех, кто праздновал, чтобы потрудились те, кто выспался.
Когда мы праздновали день рождения госпожи Шноре, к нам с другого берега прибыли все во главе с профессором Балодисом. Играли в «кошки-мышки» и другие подвижные игры. Я была «мышкой», а «котом» был художник Витолиньш, который никак не мог меня поймать. Все смеялись, а профессор больше всех: «Ну, Витолинь, эту «мышку» тебе не поймать!». Словом, профессор во всём принимал участие, шутил, веселился и был приветлив. Он часто наведывался к нам в рабочее время и обсуждал с госпожой Шноре научные вопросы.
В октябре мы закончили работу и торжественно опустили флаг.
Когда начались семинарские занятия, я попросила профессора позволить мне участвовать в них, ведь я ещё не сдавала экзамен по археологии. Профессор сразу дал разрешение, поскольку я уже работала на раскопках. Таким образом, я получила возможность участвовать в очень интересном семинаре, в работе которого также принимали участие приглашённые работники музея, археологи, архитекторы, искусствоведы. Мы сходили в музей истории Латвии, вместе осмотрели экспозиции и, главное, фонды археологического отдела. Каждому из участников семинара следовало подготовить доклад о какой-либо группе древности, самостоятельно ознакомиться с этой группой в музее и описать. Профессор часто заглядывал в музей, чтобы посмотреть, как мы работаем, и шутил, что уличил некоторых «особо усердных».
Весной профессор распределил всех участников семинара на летние работы. Так как на раскопках я уже побывала, меня отправили в музей. Эта практика в отделе археологии музея истории Латвии была священной. Заведующей отделом была госпожа Шноре, работниками – мои будущие дорогие коллеги Эмилия Бривкалне, Расма Цеплите, Люция Ванкина и Мелита Вилсоне. Из окон нашего кабинета была видна Даугава и часть сада президентского замка. Мы могли многое видеть – президента Карлиса Улманиса во время прогулки по саду, первые демонстрации «рабочего народа» с красными флагами и плакатами с требованиями «работы и хлеба». У женщин на головах были красные сатиновые косынки, у всех одинаковые. Таких чудес в жизни нам ещё не приходилось видеть…
Но я вновь забежала вперёд. Ещё до всех этих событий нам довелось основательно поработать, как следует ознакомившись с работой отдела археологии. А закончилась практика тем, что руководство музея велело нам больше не приходить, потому что «толпа сумасшедших рабочих людей» может вломиться в то крыло замка, где находится музей, а ведь никакой охраны нет. Мы мило попрощались и расстались навсегда…
Профессор Балодис считал участников его семинара и всех археологов вообще одной семьёй. Незабываемой стала последняя экскурсия, организованная профессором по маршруту Даугмале – Елгава – Тервете – Межотне – Бауска – Рига. Был чудесный весенний день. Около университета нас ждал великолепный синий автобус, в который поместились все участники семинара. В качестве гостя с нами ехал искусствовед Янис Силиньш, подробно рассказавший о Елгавском замке и о деятельности Растрелли в Латвии вообще. Также с нами ехал секретарь Карлиса Улманиса Рудум 53. С экспозицией Елгавского музея нас ознакомили сами работники музея. В Елгаве присоединился Валдис Гинтерс 54 – директор музея истории Латвии (археолог), рассказавший о раскопках в Межотне. В Бауске, в кафе у подножья замка, профессор хотел всех нас угостить, но там, к сожалению, ничего, кроме лимонада, не оказалось: не ожидали такого количества посетителей!
В Тервете всё было усыпано голубыми подснежниками, мы нарвали их нашим преподавателям. Не помню, была ли с собой какая-то еда. Помню только, что нас щедро угощали конфетами. Портфель господина Рудума был набит шоколадками, а в Елгаве профессор послал одну студентку в магазин за конфетами. Она принесла два куля с шедеврами «Лаймы» – сливами в шоколаде. Таких вкусных конфет я больше никогда не пробовала…
Все были в чудесном настроении, по дороге домой пели песни, Мета Павеле исполнила несколько оперных арий. Приехав в Ригу, купили в киоске свежую газету и … нас охватило тяжёлое предчувствие. Расставались уже без смеха и улыбок. Некоторых коллег, Рудума и профессора Балодиса я больше никогда не видела.
Так этот день стал днём прощания с моей беззаботной юностью.
Позже мне посчастливилось устроиться на работу в музей, я самостоятельно вела раскопки, видела много памятников, познакомилась и подружилась со многими выдающимися людьми. Но этот красивый весенний день с первыми голубыми цветами, юношеский восторг и радость навсегда остались в моей памяти. Спасибо Вам, профессор, и спасибо вам, мои дорогие друзья и коллеги!

Татьяна Павеле (Асташкевич) во время археологических раскопок в Старой Риге.
Конец 1940-х годов
Рига, 2001 – 2005 годы.
Воспоминания Т.И. Павеле «Моё светлое детство и юность» перевела с латышского Елизавета Карпова.
Комментарии Татьяны Фейгмане.
Комментарии:
1. Феофан Васильевич Борисович (1868-1943) – благочинный Лудзенского округа, протоиерей, законоучитель. С 1892 года служил в Лудзенском Свято-Успенском соборе. С 1913 года и до своей кончины был его настоятелем.
2. Иван Дмитриевич Поляков (1882-1951) – родился в Вятской губернии в семье священника. В 1911 году окончил Юрьевский университет. Работал учителем. С 1926 по 1934 год был директором Лудзенской русской правительственной гимназии. В 1943 года был рукоположен сперва во диакона, затем во иерея.
3. Анна Юрьевна Свэнне-Мелдерис (1891 - ?) – с 1911 года работала учителем. В 1913 году вышла замуж за учителя О.Я. Свэнне. В 1921 году окончила педагогическое отделение при Высшей школе Латвии и поселилась в Лудзе, по месту службы мужа. Работала в основных школах уезда, а с 1926 по 1935 год в Лудзенской русской правительственной гимназии. После ликвидации гимназии вышла на пенсию. 14 июня 1941 вместе с сыном (дочери на момент ареста не было дома) была депортирована в Красноярский край. Обвинялась в том, что была командиром женского отделения организации айзсаргов (военизированная организация, поддерживавшая К. Ульманиса). Только после многочисленных прошений семьи Свэнне, а также Постановления СМ Латвийской ССР от 8 декабря 1958 года после длительных проволочек Анна и Гунар Свэнне в апреле 1959 года смогли вернуться в Латвию.
4. Отто Янович Свэнне (1886 -1938) – родом из крестьянской семьи. С 1905 году работал учителем. В 1914 году окончил Минский учительский институт. В 1920-30-е работал инспектором школ Лудзенского уезда. В 1938 году был освобождён от занимаемой должности. Умер в том же году.
5. Мария Викторовна Микирова – родилась в 1894 году в семье священника о. Виктора Краснянского в Иллукстском уезде Курляндской губернии. После смерти отца вместе с матерью поселилась в Риге и поступила в Ломоносовскую женскую гимназию, которую окончила с золотой медалью. С1913 по 1918 год училась в Петербургском (Петроградском) женском педагогическом институте. По окончании получила диплом с отличием. По возвращении в Латвию посвятила себя педагогической работе: преподаванию русской словесности и истории. С 1926 по 1935 год работала в Лудзенской правительственной русской гимназии, с 1935 по 1940 год – в Рижской правительственной русской гимназии, с 1941 по 1944 год – в Рижской русской гимназии. В 1927 году вышла замуж за Фёдора Павловича Микирова. Скончалась в Риге 9 декабря 1963 году.
6. Михаил Павлович Большесольский (1891-1943) – выпускник физико-математического факультета Петербургского университета. Участник Первой мировой войны. Некоторое время служил в Красной армии. Дезертировал. Бежал в Латвию, на родину супруги Екатерины Модестовны. Работал учителем в разных учебных заведениях, в том числе в Лудзенской правительственной русской гимназии. После её ликвидации в 1935 году остался без работы. В 1940 году несколько месяцев исполнял обязанности директора Резекненской русской гимназии, но вскоре был уволен из-за конфликта со школьной комсомольской организацией. 14 июня 1941 году был депортирован из Латвии. Обвинялся в дезертирстве из Красной армии и препятствии в работе школьной комсомольской организации. Приговорён Особым совещанием к 10 годам лагерей. Умер в Вятлаге Кировской области 29 мая 1943 году.
7. Екатерина Модестовна Большесольская (урождённая фон Розеншильд-Паулин) (1891-1956) – 14 июня 1941 года Е.М. Большесольская вместе с детьми: Павлом 1922 г.р., Еленой 1923 г.р., Татьяной 1925 г.р., Игорем 1927 г.р. и Ниной 1928 г.р. – были депортированы в Красноярский край. Старший сын Всеволод 1921 г.р. был депортирован отдельно и приговорен к 10 годам лагерей. После отбытия срока воссоединился с семьей, находившейся на поселении в посёлке Усть-Порт Красноярского края. Во время ссылки в 1943 году скончались Елена и Татьяна. Годом позже умер Павел. В 1956 году семье Большесольских было объявлено об освобождении со спецпоселения, однако отказано в возвращении в Латвию. По данным на 1990 год в живых оставалась лишь младшая дочь Нина, проживавшая в городе Канске.
8. Георгий Анемподистович Князев родился в 1895 году в городе Ишиме Тобольской губернии. Окончил Историко-философский институт с правами преподавателя истории и географии, а также Петроградский археологический институт. В 1918-1920 годах работал учителем в гимназиях Тобольска и Томска. В ноябре 1921 года выехал в Латвию, на родину супруги. Работал в разных, в основном, частных, учебных заведениях. С 1931 году преподавал в Лудзенской русской правительственной гимназии. После её закрытия работал в латышских основных школах. В 1940/41 учебному году преподавал историю и латынь в Абренской (Пыталовской) государственной русской средней школе. Сведения о его дальнейшей судьбе отсутствуют.
9. Людвиг (Лудис) Эрнест Берзиньш (1870-1965) – лютеранский пастор и учитель, профессор Латвийского университета (1935), фольклорист, поэт, учёный. До Первой мировой войны активно работал на ниве просвещения. В конце 1930-х годов под его редакцией вышел 6-томный труд «История латышской литературы». В 1944 году эмигрировал в Германию, в 1950 году – в США, где и закончил свои дни.
10. Онисим (Анисим) Григорьевич Рекашов (Рекашев) (1859-1955) – врач, выдающийся диагност, более 70 лет отдавший служению жителям Латгальского края.
11. Сергей Степанович Полубинский родился в 1883 году в Смоленске, в семье священника. Учился в Юрьевском университете, где прошел сокращённый курс на физико-математическом факультете и получил право преподавать естественную историю и химию в гимназиях и прогимназиях (1910). С 1910 по 1917 год работал учителем в Валке. В 1917 году был эвакуирован во Владимирскую губернию. В начале 1920-х годов вернулся в Латвию. С 1921 по 1926 год работал в Лиепайской гимназии Общества преподавателей и родителей. В 1925/26 учебном году работал в Лиепайской средней школе И.Д. Полякова. В связи с назначением И.Д. Полякова директором Лудзенской русской правительственной гимназии, переместился в Лудзу, где преподавал физику, естествоведение и географию. Сведения о работе после 1935 года и его дальнейшей судьбе отсутствуют.
12. Павел Никанорович Трубецкой (1919-1983). Сын о. Никанора Трубецкого. В 1938 году окончил Резекненскую правительственную русскую гимназию. В 1939 году определён псаломщиком к Михаловской Покровской церкви. Учился в Богословском институте. В 1943 году рукоположен во диакона. Служил в нескольких рижских храмах. В 1945 году перемещён в Михалово, в 1948 году – в Рижскую церковь Иоанна Предтечи. В 1950 году арестован органами НКВД и приговорен к 10 годам лагерей. После освобождения в 1956 году служил диаконом в городе Риге, был возведён в сан протодиакона.
13. В 1920-30 годы общество «Сокол» было весьма популярно среди русской эмигрантской молодежи. «Сокольское» движение зародилось в Чехии и являлось противовесом политике онемечивания, проводившейся Австро-Венгрией. Воспитанию молодёжи должны были способствовать не только идеологические беседы, но и особая система гимнастических упражнений. В Латвии первое «сокольское» общество возникло в Даугавпилсе в 1928 году, в Риге – в 1930 году, в Резекне – в 1933 году и в Елгаве – в 1934 году. «Сокольские» организации в Латвии рассматривались как рассадники монархических идей. Ещё более отрицательным было отношение к «соколам» со стороны советской власти. Значительная часть членов этого общества была подвергнута репрессиям в 1940/1941 годах.
14. Тамара Дмитриевна Керпе (ур. Войнич) (1919-1995). Дочь врача Д.Е. Войнича. По профессии архитектор. Многие годы работала в институте «Латгипрогорстрой». Умерла в Риге.
15. Дмитрий Емельянович Войнич (1893-1981). Детство и юность провёл в Ковенской губернии. В 1912 году поступил на медицинский факультет Саратовского университета. Во время Первой мировой войны был призван в армию, состоял на медицинской службе. В 1921 году поселился в Латвии. В 1926 году получил диплом врача в Латвийском университете. С 1928 года работал в Латгалии. С 1938 по 1961 год работал в Лудзенской уездной (районной) больнице.
16. Александра Александровна Фёдорова (1884-1972) – бывшая солистка Мариинского театра в Петербурге. С 1925 по 1937 год жила и работала в Риге. Имела свою частную балетную студию. Скончалась в Нью-Йорке.
17. Зоя Гаррьевна Маслова (ур. Больман) (1918-2007). Скончалась в Риге, похоронена в Резекне.
18. Михаил Никанорович Трубецкой (1917-1974) – сын о. Никанора Трубецкого. С 1936 года служил псаломщиком при Михаловской церкви. В 1941 году рукоположен во диакона. В 1949 году арестован и приговорен к 10 годам лагерей. В 1956 году освобождён по амнистии. Продолжил службу и был возведён в сан протодиакона. Служил в Риге, а затем в Псковской епархии. Похоронен в Михалово.
19. Хелена Козловска-Эрса родилась в 1895 году в Латгалии. В 1925 году окончила Латвийскую консерваторию. Выступала в концертах с сольными номерами. С 1945 году была солисткой Латвийской филармонии. Скончалась в Риге в 1949 году.
20. Ян Яунсудрабиньш (1877-1962) – латышский писатель, поэт, драматург, художник. В 1944 году эмигрировал в Германию, где в основном занимался переводами мировой классики на латышский язык. Умер в Кёльне.
21. Вульф Франк – известный фотограф в Лудзе в 1920-30-е годы. Отец известного кинодокументалиста Герца Франка.
22. Герц Вульфович Франк (1926-2013) – выдающийся латвийский кинодокументалист. Наиболее известная его работа «Высший суд» (1987). С 1993 года жил, в основном, в Израиле. Скончался в Иерусалиме.
23. Леон Томашицкис (1904-1996) – известный скульптор и педагог. Родился в Лудзе, окончил местную гимназию. В 1935 году закончил Латвийскую Академию художеств. Ещё будучи студентом, стал автором проекта статуи Святой Девы Марии, установленной в Лудзе. Победил в конкурсе на лучший проект памятника освободителям Латгалии в Резекне. В послевоенные годы много сил отдавал преподавательской работе. Был участником и лауреатом республиканских и всесоюзных выставок.
24. Михаил Викторович Арцимович (1859-1933) – российский государственный деятель, сенатор. Потомственный дворянин. Отец – Арцимович Виктор Антонович (1820-1893) – Тобольский и Калужский губернатор. Мать – Анна Михайловна Жемчужникова (1832-1908), сестра братьев Жемчужниковых, создателей образа Козьмы Пруткова. В 1865 году В.А. Арцимович приобрёл в Люцинском (Лудзенском) уезде имение Рунторт, куда на лето нередко приезжали братья Жемчужниковы. Однако сам хозяин имения жил в нём редко. М.В. Арцимович пошёл по стопам отца. С 1902 по 1904 год – Сувалкский губернатор, с 1905 по 1905 год – Петроковский губернатор, с 1905 по 1907 год – Тульский, а с 1911 по 1915 год – Витебский губернатор. С 1920 года жил в Латвии, в семейном имении Рунторт.
25. Карлис Ульманис (1877-1942) родился в зажиточной крестьянской семье на хуторе Пикшас в Добленском (Добельском) уезде Курляндской губернии. С юности работал в области сельского хозяйства и молочного производства. В 1903 году учился в Сельскохозяйственном институте в Лейпциге, но по окончании учебного года вернулся домой. Во время революции 1905 года подвергался преследованиям: около полугода провёл в заключении в Псковской тюрьме. После освобождения вынужден был покинуть Россию. Жил и работал в Германии. В 1907 году уехал в США, где работал на молочной ферме в штате Небраска. Одновременно совершенствовал свои знания в американских учебных заведениях. Благодаря амнистии в 1913 году вернулся на родину. После Февральской революции 1917 году активно включился в политику. Стал одним из основателей и лидеров партии «Латышский Крестьянский союз». В ноябре 1918 году участвовал в создании Народного Совета и провозглашении Латвийского государства. Был первым премьер-министром. Четырежды занимал эту должность. Будучи главой Кабинета министров 15 мая 1934 года совершил государственный переворот, в результате которого установил свою диктатуру, хотя формально, до истечения своих полномочий 11 апреля 1936 года, президентом страны оставался А. Квиесис. После чего К. Ульманис самолично назначил себя президентом. Этот пост он занимал до 21 июля 1940 года. На следующий день был депортирован через Москву в Ворошиловск (Ставрополь). В начале войны арестован. Умер в тюремной больнице города Красноводска (Туркмения).
26. Никанор Михайлович Трубецкой (1876 – 1959). В 1906 году рукоположен во диакона, в 1910 году - во священника. В конце 1918 года перемещён настоятелем в Михаловскую церковь. За исключением периода с 1943 по 1945 год, и до своей кончины был настоятелем Михаловской Покровской церкви. Похоронен в Михалово.
27. Борис Иванович Раман (1875- ?) – родился в семье латышских крестьян в Мадонском уезде. Окончил Витебскую духовную семинарию. В 1915 году рукоположен во священника. С 1917 года служил в Свято-Троицкой церкви в Голышево.
28. Иван Петрович Тутышкин (1876-1939) – выпускник факультета истории и филологии Московского университета. Работал учителем в разных городах России. В канун Первой мировой войны получил место в Либаве. С 1921 года работал в разных школах Латвии. С 1930 по 1939 годы – директор Резекненской правительственной русской гимназии. Автор нескольких научных работ по психологии.
29. Таисия Ивановна Микула (1898-1983) – родилась в Риге в старообрядческой семье, окончила Ломоносовскую женскую гимназию. С 1922 года преподавала в русских и белорусских школах. С 1929 года работала в Рижской правительственной русской гимназии, в должности воспитательницы девочек, с 1936/37 учебного года – учителем домоводства.
30. Николай Николаевич Кузьминский (1881-1945) – родился в Вологде в семье чиновника. Окончил физико-математический факультет Петербургского университета. С 1920 года жил и работал в школах Риги. Возглавлял Союз русских учителей Латвии. Во время немецкой оккупации входил в состав «Русского комитета», где курировал работу русских школ. Осенью 1944 года арестован органами НКВД и приговорен к 10 годам ИТЛ.
31. Василий Васильевич Преображенский (1897-1941) – педагог, общественный деятель. Участвовал в организации Дней русской культуры. В 1936 г. решением Министерства образования был лишен права на преподавание из-за несоответствия его взглядов курсу правительства. В конце 1930-х годов работал делопроизводителем в Рижском Кафедральном соборе и псаломщиком в Благовещенском храме. 14 июня 1941 депортирован из Латвии в Соликамский лагерь, где вскоре погиб.
32. Николай Семёнович Фёдоров (1882-1954) – морской офицер в дореволюционной России, впоследствии учитель, в 1941-1944 годах – директор Рижской русской гимназии. После войны продолжал работать учителем в Риге.
33. Евгений Евгеньевич Климов (1901-1990) – художник. Родился в Митаве (Елгаве). Окончил Латвийскую Академию художеств. Работал в разных жанрах, используя различные виды техники. В 1944 году уехал на Запад. С 1949 года жил в Канаде. Наиболее известные работы: мозаика «Святая Троица» в Псковском Свято-Троицком соборе и мозаика «Святой Иоанн Предтеча» для часовни - усыпальницы свмщч. Иоанна (Поммера) на Покровском кладбище в Риге.
34. Борис Робертович Виппер (1888-1967) – сын известного историка Роберта Виппера. С 1924 по 1941 год преподавал в Латвийской Академии художеств и Латвийском университете историю и теорию искусства. Весной 1941 года уехал в Москву, где продолжал плодотворно работать в области искусствоведения.
35. Николай Александрович Перехвальский (1873 -1966). Окончил Казанскую Духовную академию. В 1899 году в Рижском Кафедральном соборе рукоположен во диакона, и в том же году рукоположен во священника. Служил в церквах Риги, занимал административные должности. С 1935 года был членом Синода ЛПЦ. Преподавал Закон Божий в русских школах Риги. С 1933 по 1940 год был главным редактором журнала «Вера и Жизнь». В 1944 году уехал на Запад. Служил в лагерях беженцев в Германии. В 1949 году перебрался в США. Служил в Нью-Йоркском Кафедральном Покровском соборе.
36. Журнал «Вера и жизнь» выходил в Риге с 1923 по 1940 год.
37. «Sorotitas Tatiana» (сестричество Татьян) – русская женская студенческая корпорация. Датой основания принято считать 17 января 1932 г. Цвета: зелёный, синий, алый. Корпорация объединяла как студенток, так и окончивших курс обучения (филистров). В 1940 года корпорация была закрыта советскими властями. В 1991 году «Sorotitas Tatiana» возобновила свою деятельность.
38. Иоанн Гарклавс (1898-1982) родился в латышской крестьянской семье. С 1924 года служил псаломщиком в Лимбажской Александро-Невской церкви. В 1936 года рукоположен во диакона, и в том же году во священника. В 1943 году принял монашеский постриг и хиротонисан во епископа Рижского. В конце 1944 года был эвакуирован в Германию, в 1949 году переселился в США и перешёл в юрисдикцию Американской Православной Митрополии. При эвакуации из Латвии Владыка Иоанн вывез икону Тихвинской Божией Матери и был её хранителем, завещав вернуть её в восстановленный Тихвинский монастырь, что и произошло в 2004 году.
39. Людмила Кёлер-Земмериг (1917, Троицк, Московская губ.- 2006, Спасо-Вознесенский монастырь на Елеоне). В 1937 году окончила Рижскую правительственную русскую гимназию. Поступила в Латвийский университет, но не успела окончить обучение. Эмигрировала в Германию. В 1948 году окончила юридический факультет Мюнхенского университета. В начале 1950-х годов переселилась в США. В 1963 году защитила докторскую диссертацию по славянским языкам и литературе. Работала профессором в нескольких университетах. Член Русской Академической группы в США. Автор ряда монографий. После выхода на пенсию уехала в Иерусалим, где приняла монашеский постриг с именем Иоанна (в честь Архиепископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Поммера).
40. Эрнест Плакис (1897-1972) – профессор-медик. Образование получил в ЛУ и в университете Монпелье (Франция). Работал в Риге в психиатрической больнице. Состоял в крайне националистической организации «Перконкрустс» («Огненный крест»). После установления режима К. Ульманиса некоторое время был под арестом. С 1941 по 1949 год находился в ссылке в Сибири. По возвращении продолжил медицинскую практику. Умер в Риге.
41. Янис Марцевич Эндзелинс (1873-1961) – выдающийся латышский языковед, доктор филологических наук, пионер в области исследования балтийских языков. Выпускник Юрьевского (Тартуского) университета. Окончил отделение классической филологии, затем – славянской филологии. Мечтал об изучении балтийских языков, но свою мечту смог реализовать только после создания Высшей школы Латвии (Латвийского университета). Внёс большой вклад в формирование грамматики современного латышского языка. С 1944 по 1950 год руководил кафедрой латышского языка в Латвийском государственном университете. В 1958 году за работу «Грамматика латышского языка» («Latviešu valodas gramatika») ему была присуждена Ленинская премия. Похоронен на кладбище Райниса в Риге.
42. Рудольф Блауманис (1863-1908) – известный латышский прозаик, драматург и журналист. Наиболее известные произведения: новелла «В тени смерти», пьесы «Дни портных в Силмачах» и «Индраны».
43. Екаб Апситис (Apsīšu Jēkabs; наст. имя Янис Яунземис) (1858-1929) – латышский писатель.
44. Август Тентелис (1876-1942) – выпускник отделения истории и филологии Петербургского университета. С 1920 года работал в Латвийском университете. Был ректором ЛУ: с 1925 по 1927 год и с 1929 по 1931 год. Дважды был министром образования Латвии: в 1928 году и с 1935 по 1938 год. В октябре 1940 году советскими властями уволен из университета. Умер в Риге в 1942 году.
45. Конкордии – объединения латышских студентов, близкие по своей сути к корпорациям. В отличие от корпорантов имели четырёхцветные ленты, символизировавшие четыре этнографические области Латвии. Конкордии возникли в конце 1920-х годов. В 1940 году ликвидированы, восстановлены в начале 1990-х годов.
46. Теодор Целмс (1893, Валкский уезд, Лифляндская губерния – 1989, США). С 1913 по 1920 год учился в Московском университете, затем в университете Фрайбурга (Германия). Доктор философии. С 1927 года преподавал философию в Латвийском университете, с 1936 года – профессор. С 1942 по 1949 год профессор университета в Геттингене (Германия). Эмигрировал в США, где продолжил университетскую и научную карьеру.
47. Арвед Швабе (1888, Лиелстраупе, Лифляндская губерния – 1959, Стокгольм, Швеция). В юности работал учителем. Был членом Учредительного собрания Латвии (1920-1922). С 1921 по 1926 год учился на факультете народного хозяйства и права Латвийского университета. С 1929 года – приват-доцент. В 1932 году защитил докторскую диссертацию (Dr. iur.). Профессор. Главный редактор латышского энциклопедического словаря. Одновременно увлекался писательской деятельностью и переводами. В 1944 году эмигрировал в Германию, где подвергся репрессиям со стороны нацистских властей. В 1949 году эмигрировал в Швецию, где продолжил научную деятельность и работу над энциклопедическим словарём.
48. Янис Силиньш (1896 - 1991) – искусствовед, философ, художник. С 1944 года жил в эмиграции, с 1951 года – в США, где продолжал работать в области истории искусства.
49. Францис Балодис (1882, Валмиера, Лифляндская губерния – 1947, Швеция). Окончил Юрьевский (Тартуский) университет. Затем учился в Московском археологическом институте и параллельно в Московском университете. В 1910-1912 годах работал над докторской диссертацией в Мюнхенском университете. Преподавал в Московском и Саратовском университетах. В 1924 году вернулся в Латвию и был избран профессором по истории древнего восточного искусства и археологии Латвийского университета. Активно участвовал в археологических раскопках. Был деканом факультета истории и философии, директором Института истории Латвии. В июле 1940 году вместе с супругой улетел в Стокгольм для участия, якобы, в археологических раскопках и более в Латвию не вернулся
50. Роберт Юрьевич Виппер (1859-1954) – крупный специалист по новой истории европейских государств. С 1924 по 1941 год – профессор Латвийского университета. Весной 1941 году уехал в Москву, где продолжал работать до своей кончины.
51. Эйнхард (775-840) – франкский учёный, историк, настоятель монастырей Фонтенель и Зелигенштадт. Автор биографии Карла Великого – короля франков и императора Римской империи.
52. Эльвира Шноре (ур. Вилциня; 1905-1996) – археолог. Участница почти всех наиболее значимых археологических раскопок на территории Латвии.
53. Янис Рудумс (ранее – Циммерманис) (1908 - 1942) – секретарь К. Ульманиса. Летом 1940 года выехал в Москву, якобы, под предлогом необходимости сопровождать К. Ульманиса. Через несколько дней (без Ульманиса) был отправлен в Астрахань, а Ульманис – в Ворошиловск (Ставрополь). С началом войны переведён в Сталинградскую тюрьму. 12 октября 1941 года Особым совещание приговорен к 8 годам лагерей. Умер 1 апреля 1942 года в Тамбовском лагере.
54. Валдемар Валдис Гинтерс (1899-1979) – археолог и общественный деятель. С 1934 по 1944 год – директор Музея истории Латвии. Активно участвовал в археологических раскопках как в Латвии, так и за её пределами. В 1945 году эмигрировал в Швецию, где продолжал работать по своей специальности. Умер в Стокгольме.







