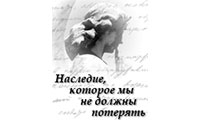Авторы
Юрий Абызов
Виктор Авотиньш
Юлия Александрова
Мая Алтементе
Татьяна Амосова
Татьяна Андрианова
Анна Аркатова, Валерий Блюменкранц
П. Архипов
Татьяна Аршавская
Михаил Афремович
Василий Барановский
Вера Бартошевская
Всеволод Биркенфельд
Марина Блументаль
Валерий Блюменкранц
Александр Богданов
Надежда Бойко (Россия)
Катерина Борщова
Мария Булгакова
Ираида Бундина (Россия)
Янис Ванагс
Игорь Ватолин
Тамара Величковская
Тамара Вересова (Россия)
Светлана Видякина
Светлана Видякина, Леонид Ленц
Винтра Вилцане
Татьяна Власова
Владимир Волков
Валерий Вольт
Константин Гайворонский
Гарри Гайлит
Константин Гайворонский, Павел Кириллов
Ефим Гаммер (Израиль)
Александр Гапоненко
Анжела Гаспарян
Алла Гдалина
Елена Гедьюне
Александр Генис (США)
Андрей Герич (США)
Андрей Германис
Александр Гильман
Андрей Голиков
Юрий Голубев
Борис Голубев
Антон Городницкий
Виктор Грецов
Виктор Грибков-Майский (Россия)
Генрих Гроссен (Швейцария)
Анна Груздева
Борис Грундульс
Александр Гурин
Андрей Гусаченко
Виктор Гущин
Владимир Дедков
Оксана Дементьева
Надежда Дёмина
Таисия Джолли (США)
Илья Дименштейн
Роальд Добровенский
Оксана Донич
Ольга Дорофеева
Ирина Евсикова (США)
Евгения Жиглевич (США)
Людмила Жилвинская
Юрий Жолкевич
Ксения Загоровская
Евгения Зайцева
Игорь Закке
Татьяна Зандерсон
Борис Инфантьев
Владимир Иванов
Александр Ивановский
Алексей Ивлев
Надежда Ильянок
Алексей Ионов (США)
Николай Кабанов
Константин Казаков
Имант Калниньш
Ирина Карклиня-Гофт
Валерий Карпушкин
Елизавета Карпова
Людмила Кёлер (США)
Тина Кемпеле
Евгений Климов (Канада)
Светлана Ковальчук
Юлия Козлова
Андрей Колесников (Россия)
Татьяна Колосова
Марина Костенецкая
Марина Костенецкая, Георг Стражнов
Нина Лапидус
Расма Лаце
Наталья Лебедева
Натан Левин (Россия)
Димитрий Левицкий (США)
Ираида Легкая (США)
Фантин Лоюк
Сергей Мазур
Александр Малнач
Дмитрий Март
Рута Марьяш, Эдуард Айварс
Рута Марьяш
Игорь Мейден
Агнесе Мейре
Маргарита Миллер
Владимир Мирский
Мирослав Митрофанов
Марина Михайлец
Денис Mицкевич (США)
Кирилл Мункевич
Николай Никулин
Тамара Никифорова
Сергей Николаев
Виктор Новиков
Людмила Нукневич
Константин Обозный
Григорий Островский
Ина Ошкая
Ина Ошкая, Элина Чуянова
Татьяна Павеле
Ольга Павук
Вера Панченко
Наталия Пассит (Литва)
Олег Пелевин
Галина Петрова-Матиса
Валентина Петрова, Валерий Потапов
Гунар Пиесис
Пётр Пильский
Виктор Подлубный
Ростислав Полчанинов (США)
Анастасия Преображенская
А. Преображенская, А. Одинцова
Людмила Прибыльская
Артур Приедитис
Валентина Прудникова
Борис Равдин
Анатолий Ракитянский
Глеб Рар (ФРГ)
Владимир Решетов
Анжела Ржищева
Валерий Ройтман
Яна Рубинчик
Ксения Рудзите, Инна Перконе
Ирина Сабурова (ФРГ)
Елена Савина (Покровская)
Кристина Садовская
Маргарита Салтупе
Валерий Самохвалов
Сергей Сахаров
Наталья Севидова
Андрей Седых (США)
Валерий Сергеев (Россия)
Сергей Сидяков
Наталия Синайская (Бельгия)
Валентина Синкевич (США)
Елена Слюсарева
Григорий Смирин
Кирилл Соклаков
Георг Стражнов
Георг Стражнов, Ирина Погребицкая
Александр Стрижёв (Россия)
Татьяна Сута
Георгий Тайлов
Никанор Трубецкой
Альфред Тульчинский (США)
Лидия Тынянова
Сергей Тыщенко
Михаил Тюрин
Павел Тюрин
Нил Ушаков
Татьяна Фейгмане
Надежда Фелдман-Кравченок
Людмила Флам (США)
Лазарь Флейшман (США)
Елена Францман
Владимир Френкель (Израиль)
Светлана Хаенко
Инна Харланова
Георгий Целмс (Россия)
Сергей Цоя
Ирина Чайковская
Алексей Чертков
Евграф Чешихин
Сергей Чухин
Элина Чуянова
Андрей Шаврей
Николай Шалин
Владимир Шестаков
Валдемар Эйхенбаум
Абик Элкин
Фёдор Эрн
Александра Яковлева
Сергей Крук — нетипичный пример латвийского
русского. Свободно владеет латышским, учился во Франции и Америке, преподает в
университете им. Страдыня и при этом остается убежденным негражданином. На
госслужбе! Нелогично…
— Начнем сначала. Сергей, вы где латышский выучили?
— Во дворе. Я ведь родился в колхозе под Сигулдой, родители переехали туда в начале 60–х. В 91–м был на баррикадах среди тех, кто активно боролся "За нашу и вашу свободу!". Работал на подпольной радиостанции в дни путча, создавал русскую программу "Домская площадь", а потом Латвия изменила правила игры и объявила меня негражданином. Так что мой статус вполне логичен. Нелогично было бы проходить натурализацию, поскольку мне обязаны были дать гражданство еще 20 лет назад. Я плохо представляю себя сдающим экзамен по латышскому языку.
— Для успешного русского в Латвии нехарактерно иметь свою позицию — не боитесь?
— Так кто ж о ней знает? Если серьезно, меня не интересует реакция. Я могу жить со своим статусом спокойно еще и потому, что, профессионально исследуя все эти вопросы, многосторонне осмысливаю их для себя. Делаю из этого теоретическую конструкцию, подвожу под нее научную базу. Например, я вижу, как меняются критерии интеграции, которую предлагают нелатышам. Сначала это была общность демократических ценностей — ее достигли. Потом обозначили латышский язык — пожалуйста, владеем. Теперь и этого недостаточно — Элерте требует, условно говоря, прыгать на Лиго через костер, но на это я уже не готов просто потому, что правила постоянно меняются во время игры и конца краю этому не видно. Нас бомбардируют противоречивыми заявлениями: "Они не хотят натурализоваться, хотя для этого есть все возможности" — и тут же новых русских граждан априори объявляют нелояльными, уверяя общество, что на выборах они обязательно проголосуют не за тех.
— Нам говорят, что мы не можем сблизиться с латышами только из–за незнания латышского.
— Опять меня после этих слов вызовут в полицию, но я настаиваю: дело не в языке — в официальной установке латышской культуры, как ее пропагандирует истеблишмент. С середины XIX века язык для латышей был надежным критерием распознавания свой–чужой, но с начала 2000–х перестал быть таковым, потому что многие русские уже владеют им на уровне родного. Новые требования нам выдвигают с одной целью — отодвинуть от себя нелатышей. Показательный пример: недавно Еврокомиссия приглашала меня к обсуждению проблем латышской идентичности — "мы хотели бы узнать взгляд нелатыша, со стороны". Но какой же у меня взгляд со стороны, я живу внутри всего этого, и сразу удивление: "Разве вы латыш"? Тебя отталкивают, даже если ты хочешь приблизиться, — вот и вся интеграция.
— Но разве не выход брать гражданство, крепче поддерживать "Центр согласия", они наберут больше мест в сейме, и тогда изменится ситуация.
— А я не знаю, как она изменится. Пока "ЦС" ведет себя, как старая дева, которая сидит на скамейке запасных и постоянно выражает готовность, зная, что ее никто не возьмет. Они говорят, что хотят в правительство, но делами этого не подтверждают. Наша политическая культура, как и отношения латыши–русские, не имеет четких правил. Заметьте, в последние пару лет из политического дискурса исчезло слово "компромисс", его заменила "красная линия". Поскольку компромисс заведомо невозможен, партии уже сами не могут определить, какие ценности для них самые важные, какими они могут поступиться. "ЦС" не привнес свежую кровь в политическую дискуссию, а хорошо встроился в существующую систему.
— Вот интересно, почему согласных с вами много, но по факту мы имеем общее отсутствие позиции?
— Потому что все исповедуют индивидуальную практику решения своих проблем. Цеховой солидарности нет даже в среде бизнесменов, кризис вскрыл эту проблему — бизнес сам не выступил ни с какими предложениями, а остался уповать на государственные указания. Он все еще предпочитает секретное принятие решений. Классический пример: скандал вокруг ремонтов больниц и закупки медоборудования. Нечестные конкурсы — почему проигравшие фирмы не инициировали никаких публичных дискуссий? Потому что знали: здесь победит Иванов, а уж я возьму свое на своей территории. Да, и всеобщая беззащитность играет роль, правовая система не работает.
Недавно я попросил консультации относительно своих прав собственника квартиры. Мне на трех страницах расписали нормы разных законов, но все это не дало ответа, как решить проблему: крыша течет. Правовая система не направлена на решение проблем. Парламент принял законы, пусть даже противоречивые, сам в них пусть и разбирается, а представитель судебной системы не будет утруждать себя их интерпретациями и защищать здравый смысл.
Что, кстати, отличает эстонцев от латышей — эстонцы больше прагматики. Если они видят, что какие–то формальные принципы не работают, они быстро меняют закон, делают его более четким и ясным. У нас же законодательная система старается написать как можно больше мелких детальных инструкций, противоречащих друг другу, чтобы человек бежал от инициативы. Поэтому все разговоры о развитии инноваций в Латвии — пустое. А возьмите проблему с еврофондами — эстонцы создали при правительстве бесплатную контору, которая писала для желающих заявки и давала консультации, а мы в это время тонули в непонятных бумагах и теряли евроденьги. У них оценивают действия по результату, у нас — не нарушил ли ты букву закона. То же касательно гражданства: меняются критерии интеграции, лояльности, ты им соответствуешь, и все равно тебя не допускают.
— Да, но в человеческом плане Эстония гораздо жестче относится к русским, чем Латвия.
— Я думаю, эстонцам в Эстонии живется ненамного лучше, чем русским, потому что там очень жесткая система в принципе: тебе дали задание — ты должен его исполнить, а не искать, как у нас, причины, мешающие исполнению. И в обмен на деловые инициативы эстонцы предоставляют своим русским гораздо больше возможностей, чем латыши своим. Латышская культура — она изначально не для бизнеса, разница подходов сформирована историей.
— Так вместе же были и в Российской империи, и в СССР.
— Разные лютеранские секты были здесь и там. В Латвии сохранился лютеровский подход к религии — нести слово божье в массы. А эстонская церковь в XIX веке претерпела небольшую реформу и стала больше вмешиваться в каждодневные дела, у нее более активная жизненная позиция. Как в Америке — приходишь в церковь не просто молиться, тебе зачитывают лист добрых дел: заболела пожилая прихожанка — нужно пойти помочь, у другой сын служит в Афганистане — нужно писать письма поддержки… В итоге у латышей самоорганизация на уровне — собраться вместе посадить картошку. Поэтому у нас проблемы с протестными настроениями, они не перетекают в манифестации — люди не верят в солидарность, и любому начальнику легко их запугать. Новый президент Берзиньш сказал о том, что нужно веру возобновить. Не веру — нужны прагматические действия и четкие критерии оценки поступков.
— Но прагматичных руководителей может поддерживать только прагматичный народ, а наш боится голову из песка вытащить.
— Прагматизма у нас достаточно, но наша энергия уходит на то, чтоб не платить налоги, не соблюдать законы. Не случайно иностранцы удивляются тому, что по нам не видно глубины нашего кризиса. Хотя гораздо прагматичнее было бы добиваться последовательного принятия законов и оспаривать решения сомнительных бизнес–конкурсов. Проблема Латвии в том, что латышская культура до сих пор продолжает перемалывать устремления XIX века первой волны младолатышей, которые основывались на нехватке независимости и свободы. Нужно свободу, нужно свободу — но она уже есть, а что с ней делать? Чего этой свободе не хватает — может, придумать свой скайп, свою "Нокиа"?
— Но почему русские пошли на поводу у латышей и приняли бесперспективность?
— Вот это замечательный пример интеграции, когда культура одной части общества с ее страданиями переносится на другую часть общества!
— Вы сами хорошо встроены в латвийскую реальность, но насколько комфортно чувствуете себя в Латвии?
— Трудно сказать, потому что во мне перемешаны две идентичности — личная и научная. Так мне комфортно, потому что я, как научный работник, сам себе доктор соответственно психотерапии, убить проблему можно, назвав ее словом. Не случайно, когда человеку тяжело, ему нужно выговориться. По этой формуле я вижу, что не один такой в Латвии, страдающий на задворках обществ. И от этого становится легче и проще, потому что понятно — индивидуально разрешить проблему я не могу.
— А как можно?
— Я прогнозирую, что в один прекрасный, хоть и дождливый день будет принят закон, по которому до 1–го числа следующего месяца все неграждане должны взять в паспортных столах свои гражданские паспорта. А кто не возьмет с 1–го числа, тому будут начисляться пени.
— Романтик!
— Нет, я как раз реалист.
— Так ведь для этого исторического шага, как говорят, нужно долго готовить латышей, чтоб он не вызвал гражданской войны.
— Нет, все это пройдет незамеченным, разве что кое–кто немного попыхтит. Если будет последовательное, уверенное поведение со стороны тех, кто принимает законы. Когда надо, они умеют это делать — как с повышением НДС, например. Понятно же, что проблема безгражданства иначе нерешаема.
— Как же незамеченным — русские же сразу Путина президентом выберут, этим латышские радикалы запугивают электорат.
— Тогда сразу должны быть приняты законы, которые не позволят Путину В. В. баллотироваться в Латвии. Это к разговору о том, что правовая система должна функционировать, а принимаемые законы должны отражать потребности страны. Только так она может оберегать нас и от дураков в руководстве страны, и от разных других опасностей. Но у нас дела лежат в судах по нескольку лет, и это вызывает противоположный эффект. Мои коллеги говорят, что в советское время Эстония славилась сильными экономистами, Литва — переговорщиками, а Латвия — юристами. Но наши недостатки есть продолжение наших достоинств, и сегодня очень большая проблема Латвии в том, что юристы буквально погрязли в написании множества мелочных, детальных инструкций по надуманным вопросам, которые невозможно исполнить, они сами в них путаются. А в это время проблема безгражданства, несправедливая, тормозящая развитие страны, остается нерешенной.
"Вести Сегодня", № 106.
— Начнем сначала. Сергей, вы где латышский выучили?
— Во дворе. Я ведь родился в колхозе под Сигулдой, родители переехали туда в начале 60–х. В 91–м был на баррикадах среди тех, кто активно боролся "За нашу и вашу свободу!". Работал на подпольной радиостанции в дни путча, создавал русскую программу "Домская площадь", а потом Латвия изменила правила игры и объявила меня негражданином. Так что мой статус вполне логичен. Нелогично было бы проходить натурализацию, поскольку мне обязаны были дать гражданство еще 20 лет назад. Я плохо представляю себя сдающим экзамен по латышскому языку.
— Для успешного русского в Латвии нехарактерно иметь свою позицию — не боитесь?
— Так кто ж о ней знает? Если серьезно, меня не интересует реакция. Я могу жить со своим статусом спокойно еще и потому, что, профессионально исследуя все эти вопросы, многосторонне осмысливаю их для себя. Делаю из этого теоретическую конструкцию, подвожу под нее научную базу. Например, я вижу, как меняются критерии интеграции, которую предлагают нелатышам. Сначала это была общность демократических ценностей — ее достигли. Потом обозначили латышский язык — пожалуйста, владеем. Теперь и этого недостаточно — Элерте требует, условно говоря, прыгать на Лиго через костер, но на это я уже не готов просто потому, что правила постоянно меняются во время игры и конца краю этому не видно. Нас бомбардируют противоречивыми заявлениями: "Они не хотят натурализоваться, хотя для этого есть все возможности" — и тут же новых русских граждан априори объявляют нелояльными, уверяя общество, что на выборах они обязательно проголосуют не за тех.
— Нам говорят, что мы не можем сблизиться с латышами только из–за незнания латышского.
— Опять меня после этих слов вызовут в полицию, но я настаиваю: дело не в языке — в официальной установке латышской культуры, как ее пропагандирует истеблишмент. С середины XIX века язык для латышей был надежным критерием распознавания свой–чужой, но с начала 2000–х перестал быть таковым, потому что многие русские уже владеют им на уровне родного. Новые требования нам выдвигают с одной целью — отодвинуть от себя нелатышей. Показательный пример: недавно Еврокомиссия приглашала меня к обсуждению проблем латышской идентичности — "мы хотели бы узнать взгляд нелатыша, со стороны". Но какой же у меня взгляд со стороны, я живу внутри всего этого, и сразу удивление: "Разве вы латыш"? Тебя отталкивают, даже если ты хочешь приблизиться, — вот и вся интеграция.
— Но разве не выход брать гражданство, крепче поддерживать "Центр согласия", они наберут больше мест в сейме, и тогда изменится ситуация.
— А я не знаю, как она изменится. Пока "ЦС" ведет себя, как старая дева, которая сидит на скамейке запасных и постоянно выражает готовность, зная, что ее никто не возьмет. Они говорят, что хотят в правительство, но делами этого не подтверждают. Наша политическая культура, как и отношения латыши–русские, не имеет четких правил. Заметьте, в последние пару лет из политического дискурса исчезло слово "компромисс", его заменила "красная линия". Поскольку компромисс заведомо невозможен, партии уже сами не могут определить, какие ценности для них самые важные, какими они могут поступиться. "ЦС" не привнес свежую кровь в политическую дискуссию, а хорошо встроился в существующую систему.
— Вот интересно, почему согласных с вами много, но по факту мы имеем общее отсутствие позиции?
— Потому что все исповедуют индивидуальную практику решения своих проблем. Цеховой солидарности нет даже в среде бизнесменов, кризис вскрыл эту проблему — бизнес сам не выступил ни с какими предложениями, а остался уповать на государственные указания. Он все еще предпочитает секретное принятие решений. Классический пример: скандал вокруг ремонтов больниц и закупки медоборудования. Нечестные конкурсы — почему проигравшие фирмы не инициировали никаких публичных дискуссий? Потому что знали: здесь победит Иванов, а уж я возьму свое на своей территории. Да, и всеобщая беззащитность играет роль, правовая система не работает.
Недавно я попросил консультации относительно своих прав собственника квартиры. Мне на трех страницах расписали нормы разных законов, но все это не дало ответа, как решить проблему: крыша течет. Правовая система не направлена на решение проблем. Парламент принял законы, пусть даже противоречивые, сам в них пусть и разбирается, а представитель судебной системы не будет утруждать себя их интерпретациями и защищать здравый смысл.
Что, кстати, отличает эстонцев от латышей — эстонцы больше прагматики. Если они видят, что какие–то формальные принципы не работают, они быстро меняют закон, делают его более четким и ясным. У нас же законодательная система старается написать как можно больше мелких детальных инструкций, противоречащих друг другу, чтобы человек бежал от инициативы. Поэтому все разговоры о развитии инноваций в Латвии — пустое. А возьмите проблему с еврофондами — эстонцы создали при правительстве бесплатную контору, которая писала для желающих заявки и давала консультации, а мы в это время тонули в непонятных бумагах и теряли евроденьги. У них оценивают действия по результату, у нас — не нарушил ли ты букву закона. То же касательно гражданства: меняются критерии интеграции, лояльности, ты им соответствуешь, и все равно тебя не допускают.
— Да, но в человеческом плане Эстония гораздо жестче относится к русским, чем Латвия.
— Я думаю, эстонцам в Эстонии живется ненамного лучше, чем русским, потому что там очень жесткая система в принципе: тебе дали задание — ты должен его исполнить, а не искать, как у нас, причины, мешающие исполнению. И в обмен на деловые инициативы эстонцы предоставляют своим русским гораздо больше возможностей, чем латыши своим. Латышская культура — она изначально не для бизнеса, разница подходов сформирована историей.
— Так вместе же были и в Российской империи, и в СССР.
— Разные лютеранские секты были здесь и там. В Латвии сохранился лютеровский подход к религии — нести слово божье в массы. А эстонская церковь в XIX веке претерпела небольшую реформу и стала больше вмешиваться в каждодневные дела, у нее более активная жизненная позиция. Как в Америке — приходишь в церковь не просто молиться, тебе зачитывают лист добрых дел: заболела пожилая прихожанка — нужно пойти помочь, у другой сын служит в Афганистане — нужно писать письма поддержки… В итоге у латышей самоорганизация на уровне — собраться вместе посадить картошку. Поэтому у нас проблемы с протестными настроениями, они не перетекают в манифестации — люди не верят в солидарность, и любому начальнику легко их запугать. Новый президент Берзиньш сказал о том, что нужно веру возобновить. Не веру — нужны прагматические действия и четкие критерии оценки поступков.
— Но прагматичных руководителей может поддерживать только прагматичный народ, а наш боится голову из песка вытащить.
— Прагматизма у нас достаточно, но наша энергия уходит на то, чтоб не платить налоги, не соблюдать законы. Не случайно иностранцы удивляются тому, что по нам не видно глубины нашего кризиса. Хотя гораздо прагматичнее было бы добиваться последовательного принятия законов и оспаривать решения сомнительных бизнес–конкурсов. Проблема Латвии в том, что латышская культура до сих пор продолжает перемалывать устремления XIX века первой волны младолатышей, которые основывались на нехватке независимости и свободы. Нужно свободу, нужно свободу — но она уже есть, а что с ней делать? Чего этой свободе не хватает — может, придумать свой скайп, свою "Нокиа"?
— Но почему русские пошли на поводу у латышей и приняли бесперспективность?
— Вот это замечательный пример интеграции, когда культура одной части общества с ее страданиями переносится на другую часть общества!
— Вы сами хорошо встроены в латвийскую реальность, но насколько комфортно чувствуете себя в Латвии?
— Трудно сказать, потому что во мне перемешаны две идентичности — личная и научная. Так мне комфортно, потому что я, как научный работник, сам себе доктор соответственно психотерапии, убить проблему можно, назвав ее словом. Не случайно, когда человеку тяжело, ему нужно выговориться. По этой формуле я вижу, что не один такой в Латвии, страдающий на задворках обществ. И от этого становится легче и проще, потому что понятно — индивидуально разрешить проблему я не могу.
— А как можно?
— Я прогнозирую, что в один прекрасный, хоть и дождливый день будет принят закон, по которому до 1–го числа следующего месяца все неграждане должны взять в паспортных столах свои гражданские паспорта. А кто не возьмет с 1–го числа, тому будут начисляться пени.
— Романтик!
— Нет, я как раз реалист.
— Так ведь для этого исторического шага, как говорят, нужно долго готовить латышей, чтоб он не вызвал гражданской войны.
— Нет, все это пройдет незамеченным, разве что кое–кто немного попыхтит. Если будет последовательное, уверенное поведение со стороны тех, кто принимает законы. Когда надо, они умеют это делать — как с повышением НДС, например. Понятно же, что проблема безгражданства иначе нерешаема.
— Как же незамеченным — русские же сразу Путина президентом выберут, этим латышские радикалы запугивают электорат.
— Тогда сразу должны быть приняты законы, которые не позволят Путину В. В. баллотироваться в Латвии. Это к разговору о том, что правовая система должна функционировать, а принимаемые законы должны отражать потребности страны. Только так она может оберегать нас и от дураков в руководстве страны, и от разных других опасностей. Но у нас дела лежат в судах по нескольку лет, и это вызывает противоположный эффект. Мои коллеги говорят, что в советское время Эстония славилась сильными экономистами, Литва — переговорщиками, а Латвия — юристами. Но наши недостатки есть продолжение наших достоинств, и сегодня очень большая проблема Латвии в том, что юристы буквально погрязли в написании множества мелочных, детальных инструкций по надуманным вопросам, которые невозможно исполнить, они сами в них путаются. А в это время проблема безгражданства, несправедливая, тормозящая развитие страны, остается нерешенной.
"Вести Сегодня", № 106.

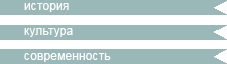


 19 июля 2011 («Вести Сегодня» № 106)
19 июля 2011 («Вести Сегодня» № 106)