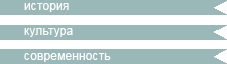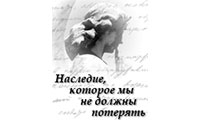Бей своих, чтоб чужие боялись!
Елена Слюсарева
26 марта 2012 («Вести Сегодня Плюс» № 25)
От сталинских репрессий в Латвии русских жителей пострадало вдвое больше, чем латышей
 Эти обнародованные в пятницу страницы истории разрушают до основания всю нашу государственную идеологию, сконструированную в последние 20 лет на эксклюзивно тяжелой судьбе латышского народа. Оказывается, другим тоже было не легче, но кто об этом знает?
Эти обнародованные в пятницу страницы истории разрушают до основания всю нашу государственную идеологию, сконструированную в последние 20 лет на эксклюзивно тяжелой судьбе латышского народа. Оказывается, другим тоже было не легче, но кто об этом знает?Небольшая аудитория Рижской думы была набита битком. Организаторы мероприятия не ожидали такого интереса общественности. Пришли поучаствовать (причем с весьма интересными данными) даже специалист Музея оккупации и научные сотрудники Института истории Латвии. Все историки подчеркивали: для советских властей ни социальный статус, ни национальность жертв значения не имели, поэтому высчитывать, какой народ пострадал, порочно. Логики арестов не было. Цель была одна: запугать всех.
"Русские латвийцы - жертвы репрессий 40-50-х годов ХХ века" - круглый стол под таким названием провели Старообрядческое общество Латвии, Центр исследования национальных культур и религий, Двинское культурное общество при поддержке Рижской думы.
Хотя русские составляли в 40-м году всего 10 процентов населения Латвии, в общей массе репрессированных в 40-41-м годах их оказалось 22 процента - в процентуальном отношении вдвое больше, чем латышей.
Всех репрессированных можно поделить на три группы: перебежчики через границу из СССР в Латвию, представители прежних властных структур (депутаты, чиновники, полицейские, судьи), а также белогвардейцы и члены разных общественных организаций. Об этом рассказали специалисты Института истории Латвии Рудите Виксне и Дзинтарс Эглис, которые несколько лет работали в архиве по этой теме.
Социально опасный элемент - такой была характерная формулировка претензий ЧК, об этом рассказала доктор исторических наук Татьяна Фейгмане. Стандартные обвинения: служба в Белой гвардии и участие в общественных организациях, которые скопом причисляли к дружественным белогвардейским в Чехословакии, Германии, Франции. Поэтому репрессии одинаково коснулись как депутатов сейма, видных просветителей, участников промонархического общества "Сокол", Русского крестьянского объединения, через которое шла переброска в СССР запрещенной литературы, так и скромных членов Союза русских учителей, Рижского русского общества: Русские студенческие корпорации вообще причислялись к фашистским, поэтому там особенно высок процент репрессированных.
Советские спецслужбы, судя по документам, к репрессиям в Латвии готовились загодя и основательно и были весьма хорошо информированы о том, кто есть кто, и даже о подробностях частной жизни будущих "клиентов". Те, чьи дела рассматривали до войны, обычно получали около 8 лет лагерей. С началом войны без особых совещаний все чаще приговаривали к расстрелу. Те, кому "посчастливилось" получить лагерный срок, после, как правило, направлялись в бессрочную ссылку, из которой в Латвию смогли вернуться только в хрущевскую "оттепель".
Отсутствие общей логики репрессий подтверждают отдельные примеры. Поэт и журналист Истомин, выехав в 1936 году в СССР, пытался остаться там, но был водворен в Латвию. Где в 41-м его осудили за связи с латвийской охранкой. Предприниматель Кузубов, у которого трудилось 20 работников, - его планировалось выслать со всей семьей, но в момент высылки дети заболели корью, их оставили дома, а отца одного отправили в лагерь.
Крупный предприниматель Емельянов, владелец кинотеатров в Риге и Таллине, также был выслан. Как и Заволоко, известный старообрядец-подвижник. Подверглись репрессиям депутаты сейма Каллистратов (расстрелян) и Елисеев (выслан). Отчасти помня эти репрессии, в 44-м многие русские уехали на Запад.
По мнению Фейгмане, ЧК трудно обвинить в том, что он своими действиями хотел обезглавить русскую общину. Национальность тут ни при чем, просто первый удар всегда наносится по мыслящим людям, которых особенно много среди интеллигенции. С этим согласился и профессор ЛУ Александр Гаврилин: "Зачем вообще нужны были репрессии - только чтоб боялись. В том отличие Гитлера от Сталина. Гитлер уничтожал чужих, Сталин - своих, чтоб чужие видели и боялись".
По этой, очевидно, причине среди священнослужителей пострадали лишь православные - лютеран и католиков не трогали вообще. Причем духовенство так явно не репрессировали. Планировали выслать всех массово в июле 41-го, а до того в индивидуальном порядке они просто пропадали. Тем, кого высылали, обычно давали 10 лет лагерей за подрыв советской власти (поскольку они проповедовали власть Божью, все автоматически подпадали под статью). Некоторым вменялось в вину членство в политических партиях, даром что Улманис все партии разогнал еще в 34-м.
В 49-м, во вторую волну репрессий, священникам, имея в виду Псковскую миссию, инкриминировали уже сношения с представителями иностранных государств - Гестапо и СД. О расстрелах духовенства сведений нет - обычно священников высылали в лагеря, где многие погибли. В общем было уничтожено 50 процентов состава Латвийской православной церкви - 48 священников и 8 диаконов (Александр Гаврилин).
Особое внимание ЧК уделяло русской прессе. Редкий из известных тогда журналистов умер естественной смертью. Точнее, всего один -парализованный Пильский. Их ссылали, сажали в тюрьмы, иные спасались бегством, другие самоубийствами, отказываясь сотрудничать с органами. Об этом рассказал общественник Борис Равдин. Инкриминировать связи с иностранцами русским журналистам было легко, ведь практически вся русская журналистика Латвии формировалась за счет эмигрантов (в массе своей местные русские были люди малообразованные: рабочие, крестьяне, преимущественно жившие в Латгалии. - Е. С.).
И в работе ЧК с этой категорией не прослеживается смысла. Могли посадить своих же осведомителей. Или - редактора газеты "Сегодня вечером" Харитона, например, репрессировали, а сына его в России не тронули вообще - он стал отцом советской водородной бомбы. Многих журналистов от репрессий уберег: Карлис Улманис, закрывший своей "железной" рукой в один день 100 русских газет! До того в первой Латвийской республике было около 200 русских СМИ, наиболее значимых - около 30. После переворота монополистом стала газета "Сегодня".
Сотрудница Музея оккупации Инесе Дреймане коснулась судеб отдельных репрессированных-старообрядцев. Илларион Иванов, председатель правления Старообрядческого общества Латвии, пояснил, что не удается даже составить список всех репрессированных священников-старообрядцев. Достоверные сведения об этом есть, а документов нет. Опять же, по каким признакам арестовывали - Иванов приводил пример многолетнего председателя Рижской Гребенщиковской общины Кудрячева Василия Егоровича. Авторитетнейший был человек, много сил положивший на помощь бедным и сиротам. В 72 года он умер в лагере - зачем...
В финале выяснилось, что на одном из рижских кладбищ есть лишь скромный памятный камень, установленный женой репрессированного гроссмейстера Петрова. Но нет в природе ни одной книги, где были бы названы поименно русские латвийцы - жертвы тех репрессий. А раз о них не помнят сами русские, латвийское государство не помнит тем более. К примеру, генерал Афанасьев, боровшийся в бою за независимость Латвии и зверски замученный чекистами 22 июня 41-го: кто ему здесь благодарен? Решили просить помощи у государства и Рижской думы, привлечь национальные общества к работе. Иначе история Латвии не будет полной...
Страшная память
Тамара Никифорова была репрессирована в возрасте 13 лет. Подробно она описала свою историю в книге "Баржа на Оби". Рассказала, как к ним в дом ворвались с обыском в 4 часа утра 14 июня 40-го года. Отец был белогвардейцем. А вместе с ним взяли жену, двух дочерей 11 и 13 лет и тещу.
- Всех посадили в грузовик и повезли на станцию Шкиротава. По дороге мы встречали много грузовиков, наполненных людьми. Никто ничего не понимал. Из машин нас выгружали прямо в вагоны. Как только набивалось человек 30, вагон запирали на засов. В вагоне были все национальности - русские, латыши, евреи, поляки, полунемцы. Двое суток нас держали на станции Шкиротава. Поскольку никто не догадался взять с собой еды, быстро начали голодать.
В Вятке нас застало начало войны. В дороге от нас отделили глав семей, у бабушки 74 лет парализовало ноги... От Новосибирска нас везли на барже - на 4 тысячи человек один туалет, в трюме теснота такая, что стоять было негде. Выгружали группами - нас расселяли в Ханты-Мансийском краю в поселках раскулаченных крестьян. Мама и бабушка умерли осенью 41-го, нас с сестрой направили в детский дом. Вернувшись в Ригу в июле 46-го, я до 50-го года не могла получить паспорт как репрессированная.
"Вести Сегодня+", № 25.