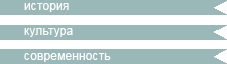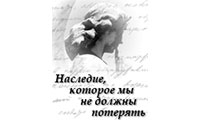На переломе
Наталья Севидова
Вести Сегодня, 10.10.2013
Мы снова, как и 25 лет назад, стоим перед историческим выбором
С профессором Латвийского университета Юрисом Розенвалдсом мы встретились в его кабинете на факультете социальных наук в знаменательный день — 25–летнюю годовщину основания Народного фронта Латвии.
Латыши вспоминают те события с восторгом, как время единения и необычайного подъема самосознания нации, русские — с горечью и разочарованием. Тогда латыши звали их встать с ними плечом к плечу в борьбе за независимость, но когда цель была достигнута, 700 тысяч русскоязычных латвийцев были лишены гражданства и многих прав. В русской среде это расценивают как вероломство. В латышской — как восстановление исторической справедливости. Но если отбросить эмоции, то почему события пошли именно по такому сценарию? И почему за целых 20 лет нам не удалось преодолеть раскол в обществе?
Чтобы понять глубинные причины этих процессов, Юрис Розенвалдс предложил вернуться к советскому периоду, предшествовавшему Песенной революции.
НФЛ — движение тревоги
— Накануне перестройки соотношение латышского и русскоязычного населения в республике, с точки зрения латышей, было угрожающим. Причем этническая диспропорция в Латвии была больше, чем в Литве и Эстонии. Народный фронт стал выражением этой тревоги латышской нации. Отсюда и высочайший уровень политического участия латышей в процессах Пробуждения.
Но именно тогда, во времена Народного фронта, мы пережили в позитивном смысле вершину в отношениях русских и латышей. Большинство тогдашних активистов НФЛ было искренне убеждено, что дальнейшее движение вперед возможно только на основе вовлечения в него всех жителей. И около трети русскоязычных, по оценке экспертов, поддержали идеи НФЛ, еще треть ходила на митинги Интерфронта, а еще треть была нейтральна, оценивая события больше с социально–экономических позиций и полагая, что в маленькой Латвии навести порядок удастся быстрее, чем в огромном СССР.
Знаменитый американский политолог Дэвид Лейтин издал книгу исследований, проведенных им в начале 90–х годов в бывших республиках СССР. Его вывод: русскоязычные в Латвии были гораздо более открытыми национальным стремлениям латышей, чем русскоязычные в Казахстане, Эстонии или Украине. Это подтверждают и данные референдума 91–го года, в котором участвовали все жители республики, включая военнослужащих. Тогда, по нашим подсчетам, примерно четвертая часть русскоязычных проголосовала за независимость.
Тем не менее в Песенную революцию латыши вошли с ярко выраженным ощущением меньшинства. Это было вызвано рядом субъективных обстоятельств.
Русские — гости или хозяева?
Удельный вес литовцев в компартии Литвы был 75%, а латышей в компартии Латвии перед перестройкой — лишь 39%. Причем часть из них были так называемые «соломенные латыши», то есть полностью обрусевшие, как, к примеру, 1–й секретарь КПЛ Август Восс. Язык госуправления в Латвии после разгрома национал–коммунистов был фактически русским. Что было связано с удельным весом и структурой промышленности. В Латв. ССР было сосредоточено большое количество предприятий союзного подчинения. Скажем, директорам «Коммутатора» или «Альфы» местные министры или секретарь ЦК были не указ, они подчинялись союзному начальству.
По этой причине русская община в Латвии ощущала свою «нормальность» и считала гарантии русскому языку в независимой Латвии само собой разумеющимися.
Независимость есть, страхи остались
Однако угроза стать меньшинством на своей исторической территории у латышей осталась. Это чувство взяло верх над призывами первых лидеров НФЛ к консолидации.
В ходе опроса в 1993 году за то, чтобы правом участия в выборах обладали только предвоенные граждане и их потомки, высказались 12% литовцев, 42% эстонцев и более 50% латышей.
И это привело к тому, что в Латвии сформировалась такая «исключающая» политическая культура. За эти 20 лет нам не удалось наладить нормальный диалог между двумя общинами и их политическими представителями.
И во многом потому, что комплекс меньшинства сидит в латышах до сих пор. Могу сослаться на исследования Мартин Эхала из Тартуского университета: самооценка латышей самая низкая по сравнению с самооценкой литовцев и эстонцев, а самооценка русскоязычных Латвии выше, чем самооценка их соотечественников в Литве и Эстонии. И свой этнический потенциал — перевес над русскими — латыши оценивают тоже очень низко, гораздо ниже, чем литовцы и эстонцы.
Петь и танцевать можно, голосовать — нет
В 2010 году мы проводили социологический опрос, в котором было два вопроса. Первый — надо ли Латвии поддерживать развитие культур и языков нацменьшинств? На него 60% латышей ответили: да, надо. А на второй вопрос, который логично вытекает из первого: выиграла бы Латвия, если бы нацменьшинства более активно участвовали в процессе государственного управления? — положительно ответили всего 30% латышей.
На обыденном уровне в Латвии у русских и латышей серьезных конфликтов нет. А вот на национальном уровне боязнь латышей сохраняется. Отсюда и, мягко говоря, неумелое, негибкое решение вопроса гражданства. Литовцы дали гражданство всем жителям, эстонцы — тем, кто записался в гражданские комитеты. Этим они подчеркнули, что ценят поддержку неэстонцев. В Латвии этого не сделали.
Еще одно важное решение, благоприятное для социального мира, было принято правительством Марта Лаара в 90–х годах: предоставление негражданам Эстонии права участвовать в выборах самоуправлений. Это был вынужденный шаг, под давлением угрозы референдума об отделении Северо–Запада от Эстонии. Совершенно ясно, каким был бы результат. И тогда Март Лаар пошел на такой экстраординарный шаг. Который, кстати, и Латвии советовали и европейские структуры. Но Латвия проявила принципиальность, достойную лучшего применения.
Кроме того, эстонцы, прекрасно понимая, что русские не будут голосовать на местах за «пришельцев», присвоили гражданство региональным лидерам русской общины. И это сыграло очень положительную роль в развитии страны. То есть эстонцы оказались более рациональными, чем латыши, хотя были не менее национально озабоченными.
Левый — значит русский?
Выбранная социально–экономическая модель развития Латвии в известной мере тоже связана с комплексом меньшинства у латышей. В силу целого ряда причин в латышской среде на обыденном уровне произошло отождествление социализма с русскими. В Литве и Эстонии этого не было. А у нас левые идеи с самого начала воспринимались как маргинальные, а социализм — как российская традиция. Поэтому большую часть из этих 25 лет у нас реализуется ярко выраженная правая политика. Реформы в Латвии шли за счет беднейших слоев населения. Власти предержащие, конечно, убеждали, что при переходе к капитализму потери неизбежны. Но это все сказки. Целый ряд восточноевропейских стран перешел от социалистической экономики к свободному рынку без таких драматических потерь. Ни в Словении, ни в Чехии, ни в Словакии, ни даже у наших соседей Литвы и Эстонии нет такого социального расслоения, как у нас.
Однако суждение, что все экономические проблемы Латвии — из–за этнического размежевания, на мой взгляд, миф. Возьмите Эстонию. У них уровень безработицы среди русскоязычных в свое время был чуть не в два раза выше, а уровень доходов существенно ниже, чем у нас. И сейчас еще эта разница существует. Но в экономическом развитии Эстония обогнала Латвию.
Я вижу проблему в том, что представители русскоязычного населения недостаточно вовлечены в политический процесс, и Латвия из–за этого, безусловно, теряет. У русскоязычных людей нет мотивации, и они уезжают. При том что количество населения Латвии уменьшается, удельный вес латышей растет. Это означает, что уезжает больше русскоязычных.
Спекуляция на страхе
Комплекс меньшинства в сознании латышей используется и подогревается политиками. Вся риторика Элерте основана на страхе: что будет, если ЦС придет к власти? Из этого комплекса меньшинства появилась формулировка, оскорбительная для русского языка, чей статус в Латвии как иностранного приравнен к языку суахили или языков индейцев джунглей Амазонии. Я, конечно, не говорю о статусе второго государственного. Изначально было ясно, что самый либеральный латыш пойдет на языковой референдум и проголосует против русского как второго государственного. Сейчас тема референдума постоянно используется в риторике против «Центра согласия» и русскоязычной общины: ага, вот вы какой камень за пазухой все время держали, а теперь мы узнали, какие вы…
Неудачные, непрагматичные, не основанные на дискуссиях решения по русской школе привели и к активизации в 2004 году русскоязычной части населения, когда оно показало, что может быть серьезной консолидированной силой.
Но в эпоху НФЛ русские все–таки сделали выбор не в пользу более радикальных политических сил — Интерфронта, затем партии Плинера и Жданок, а теперь — не в пользу «Зари» Линдермана. Это говорит о том, что в русскоязычной среде доминирует стремление к компромиссному пути. Что, к сожалению, латышскими политиками в последнее время используется явно недостаточно. Показательно, что «Единство» на муниципальных выборах конкурировало с национальным объединением, совершенно не заботясь о том, что думают о его программе русскоязычные рижане.
Любить друг друга не обязательно, но мирно жить необходимо
И все же в латышской политической среде появляется осознание того, что сила латышских партий будет прирастать русскоязычным электоратом. Что касается национального блока, то его предельный потенциал, как показывают опросы, 8% избирателей. Причем, в отличие от электората ТБ/ДННЛ, у национального блока сегодня больше молодых сторонников — в силу того, что молодежи всегда присущ больший радикализм.
А в целом в латышском обществе стремление к компромиссу тоже сильно. По нашим репрезентативным опросам, 82% латышей настроено утилитарно. Это не означает, что они очень любят русских. Но они понимают, что надо как–то жить вместе. Среди эстонцев таких 56%. На вопрос, нужно ли в начальной школе изучать русский язык, 87% латышей ответили утвердительно. Двуязычный фрагмент культуры, то есть общий для двух общин, в Латвии тоже гораздо больше, чем в Литве и Эстонии. Там он 18%, в Латвии — 40%. Оптимизм внушает рост количества смешанных браков между русскими и латышами, лучшее знание латышского языка нацменьшинствами, что признает и Государственный центр языка. И гражданские ценности у нас общие. Это хорошая основа для формирования отношений двух общин в каком–то новом формате.
Пора сойти с ринга
Мы сейчас находимся на переломе. Две сильные общины — близкие по численности и обе с сильным самосознанием — могут стоять, как два боксера на ринге, готовые обменяться ударами. Это для Латвии очень опасная перспектива, и есть симптомы, что она может осуществиться. А вторая перспектива — спокойное сосуществование. Какой сценарий нас ждет, будет зависеть от того, сколько будет в обществе людей, мыслящих прагматично. А удельный вес прагматиков, если сравнивать нас с Эстонией, в Латвии значительно выше — как среди латышей, так и среди русских.