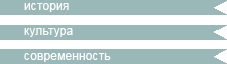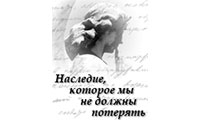Идея равноправия утонула в конформизме
Элина Чуянова
Вести Сегодня, 18.06.2013
— объясняет провал ЗАРИ на выборах медиаэксперт, профессор Сергей Крук
Зимой 2012–го Владимир Линдерман вывел на референдум за русский язык сотни тысяч граждан, а летом 2013–го те же самые граждане не дали за его партию и ломаного гроша. Какие метаморфозы случились за полтора года в массовом русском сознании? Почему асфальтированные дворики вдруг перевесили в этом сознании чувство собственного достоинства? Может быть, идея равноправия у русскоязычных Латвии вообще не востребована, а партиям и движениям просто нужно это учитывать? Профессор Рижского университета им. П. Страдыня доктор информационных наук Сергей Крук считает, что на самом деле все сложнее…
По чужим правилам
— Русскоязычные глубоко интегрированы в латышскую культурную среду и ведут себя точно так же пассивно, как и латыши, — считает Сергей Крук. — По данным исследований, как среди русских, так и среди латышей социальная активность очень низка. Менее 1% людей являются членами политических партий. Самое обширное членство у нас в религиозных приходах — до 8%. Что, кстати, тоже мало, учитывая тот факт, что около 80% людей говорят, что они верующие. Примерно столько же состоят в профсоюзах. Притом что так много разговоров о том, что работодатели притесняют, денег не платят, работники не способны организоваться. Не хотят, не могут, не умеют. С начала 2000–х люди все чаще говорят, что нет смысла работать в общественных организациях и проявлять какую–то социальную активность — себе дороже. Вот толока, субботник, кровь сдать — всегда пожалуйста. А создать общественную организацию, отстаивать свои права — это ответственность государства, пусть оно и решает.
— Уже на протяжении нескольких лет носители идеи равноправия — партия ЗаПЧЕЛ — не преодолевает 5–процентный барьер как на муниципальных, так и на парламентских выборах. Теперь та же участь постигает и ЗАРЯ. Русские дружно голосуют за респектабельный «Центр согласия», который не решает их ключевых вопросов — гражданство, образование, язык. Почему?
— Я думаю, тут рациональный тактический расчет. Если бы выбор был основан на эмоциях, то проголосовали бы за Линдермана — лишь бы позлить политическую элиту. Но избиратели предпочли согласиться с установленными правилами игры, не раздражать правящую коалицию, а решать свои прагматические вопросы, используя государственные институты — учитывая, что латышский истеблишмент любые инициативы русских классифицирует как антигосударственные. К тому же реакция латышских политиков на языковой референдум показала, что эмоции берут верх в правовых вопросах, и возможно, их можно переиграть, последовательно напоминая об идеалах демократии.
— Ну и как? Переиграли?
— Пока нет. Когда конституционные права используются «неправильными» людьми, то оказывается, правила быстро можно поменять и задержать решение вопроса. Двойные стандарты у нас в стране уже никого не шокируют.
Вожжа под мантию попала
— В том–то и дело! Но русские при этом не обижаются… Власть может радоваться…
— Видимо, для многих большее значение имеет индивидуальное благополучие, достигаемое с помощью индивидуальных стратегий. Так и в советское время граждане прятались от политики на приусадебном участке, в комиссионке и на кухне, слушая «Битлов». Нет ни опыта коллективного отстаивания прав, ни понимания того, что этим можно чего–то добиться.
— Но год назад языковый референдум нашел отклик. Мог же народ пойти в фитнес–центр, на лыжах покататься, а устремился на участки!
— Для гражданской активности по–латвийски характерно то, что народ можно мобилизовать на краткосрочный период под эмоциональными лозунгами. Когда гиря до полу доходит, люди выходят на массовые мероприятия с политическим оттенком. «Мы понимаем, что ни Бузаева, ни Линдермана в коалицию не допустят, но протестное голосование респектабельным партиям мы точно устроим!» — таков был выбор русских на референдуме. Если бы электорат следовал той же самой логике 1 июня, то партия Линдермана преодолела бы 5–процентный барьер.
На ход референдума повлияло несколько обстоятельств. Во–первых, выплеснулось недовольство, приглушенное в период внедрения реформы русских школ. Вступив в ЕС, Латвия позволила себе забыть о негласных договоренностях и перестала реагировать на рекомендации. Русскоязычным было не к кому апеллировать. Референдум дал возможность напомнить о себе. Но все развивалось постепенно. Давайте вспомним последовательность событий…
В отсутствие ЗаПЧЕЛ в сейме пропал противовес националистической риторике. Национальное объединение решило, что можно менять язык обучения в русских школах. В такой ситуации только ленивый не мог организовать протестное движение. Но сделал это внесистемный Линдерман. Тем не менее сбор подписей активизировался только после того, как коллективный протест поддержал внутрисистемный Ушаков. То есть, очевидно, избиратели поняли, что референдум способствует не банальному извержению эмоций, а подключению политических институтов к решению проблем. Выступление Ушакова вселило надежду, что фракции в сейме удастся инициировать парламентские дебаты и проблема будет решаться не на улице и не на кухнях. Но этого не случилось.
Мы — за своих?
— Может быть, на выборах сработал посыл: «Не отдадим Ригу Элерте!»?
— Элерте видит мир черно–белым, что нормального либерала просто должно оттолкнуть от ее либеральной партии. Нелатышам оставалось только голосовать за своих. Ушаков допустил немало ошибок. Он неважный оратор, его публичное поведение не соответствует статусу мэра столицы. Вдобавок его однообразная медийная гиперактивность порядком поднадоела. На него, очевидно, работала команда «кавээнщиков», обеспечившая домашние заготовки на любые вопросы. В теледебатах можно было почувствовать постановочный характер ответов. Тем не менее проголосовали со многими плюсами. Значит, выбирали своего. Сработает ли принцип «За своих!» еще раз — большой вопрос.
— Как в русле русского конформизма вы оцениваете перспективы Конгресса неграждан?
— Все идет по правилам местной политической культуры. Существование проблемы признается, о ней знают, хотя не артикулируют и не решают. При чрезмерном накапливании недовольства происходит выплеск в виде референдума или пикета, латышские СМИ и политический истеблишмент сразу включают эти вопросы в повестку дня, обещаниями, угрозами или перекладыванием ответственности с учреждения на учреждение гасят пламя, оставляя тлеющие угли. Как мы видим из предыдущего опыта, проблема или решается частично или решение откладывается до лучших времен. Спустя некоторое время все повторяется. Языковой референдум очень громко озвучил проблему, но к ее решению не приступили, а поскольку ЦС то ли не захотел, то ли не смог настоять на ее политическом обсуждении, не мог не появиться другой общественный институт — Конгресс неграждан.
— А перспективы у него есть? Или опять нужен скандал?
— Ну так нас научили! Вот начнется очередной «троллинг» вроде закрытия русских детских садов — и начнется брожение в русских массах. Это будет продолжаться до тех пор, пока политические институты не начнут работать как политические институты, чьей задачей является увидеть проблему, понять ее и искать решение, учитывая разные интересы.
Латвийский гончарный круг
— А они и не будут работать! Им и так комфортно. Зачем шевелиться?
— Они не будут работать до тех пор, пока избиратель того не потребует.
— А избиратель не потребует, потому что смирился и согласен с правилами, установленными латышской элитой. Замкнутый круг!
— Избиратель не умеет настоять на требовании. Он готов выйти на эмоциональный протест, всколыхнуть да взбудоражить, но проконтролировать принятие решений — нет. Так было и со школьной реформой, и с профсоюзным движением. Правительству удается погасить социальные протесты обещаниями, потом уже эти обещания выполнять необязательно, потому что логика протестующих хорошо известна — на второй протест энергии не хватает. Над фразой Эйнара Репше «Ну как можно было не обещать!» можно иронизировать, но ведь срабатывает. До следующего социального столкновения по тому же поводу.
— А почему неграждане не могут настоять на своих требованиях? Откуда эта «усталость металла»? Так уж сильно утомились бороться за свои права?
— А что, эти права у неграждан когда–то были? Есть с чем сравнивать? Разве что–то отняли? Ничего и не было! Как не было избирательных прав в Советском Союзе, так нет их и сейчас. Я имею в виду, что избирательное право в СССР, конечно, было у всех граждан, достигших 18 лет, но оно было формальным, избиратель ничего не решал.
Голос трех сотен тысяч человек может быть услышан только через представителя. ЦС этим не занимается, ЗаПЧЕЛ ушел с политической арены, советы и фонды при президенте и прочих государственных институтах не работают. Конгресс неграждан занимает свободную нишу.
Мы не враги, враги — не мы
— Притом что Конгресс неграждан отстаивает конституционные права жителей Латвии, «патриоты» уже готовы записать членов этого движения в стан врагов народа…
— Публичные выступления министра обороны Артиса Пабрикса являются примерами парадоксальных рассуждений. Во–первых, забавно уже то, что министр обороны называет себя политологом и рассказывает о том, как в мирное время должны работать журналисты и общественные организации. Второй парадокс — его комментирование собственных высказываний. В радиоинтервью, посвященном работе СМИ, министр говорил о том, что необходимо «пресекать», «запрещать», «использовать кнут и пряник», но когда журналист уточнил, действительно ли правительство должно вмешиваться в работу прессы, прозвучала реплика: «Мы не авторитарная страна». Пожалуй, самая большая проблема — самоидентификация политиков и реальные поступки. Либералы и сторонники идей Просвещения — на словах, охранители и приверженцы контр–Просвещения — на деле. Текст Программы интеграции соткан из таких противоречий.
— Некоторые исследователи утверждают, что между русскими и латышами в быту почти нет противоречий…
— В прошлом году социологическая группа СКДС провела исследование политических ценностей, и оказалось, что как латыши, так и нелатыши являются приверженцами консервативного государственного социализма. Электорат ЦС даже чуть–чуть либеральнее настроен, чем избиратели «Виенотибы».
Социальные психологи Тартуского университета сравнивали этническую дистанцию между разными прибалтийскими этносами. Оказалось, что самая большая дистанция, которая грозит конфликтами, — между литовцами и литовскими поляками. А самая маленькая — между латышами и латвийскими русскими. Cмысловая ориентация практического поведения у них одинакова. Политическая и социальная пассивность и тех и других тому печальный пример